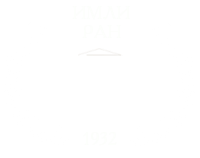Специальность 10.10.01 — русская литература
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора филологических наук
Москва
2012
Работа выполнена в Отделе классической русской литературы Учреждения Российской академии наук Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН.
|
Официальные |
доктор филологических наук, |
|
оппоненты: |
профессор Россиус Андрей Александрович |
|
Институт философии РАН |
|
|
доктор филологических наук, |
|
|
профессор Шмараков Роман Львович |
|
|
Тульский Государственный университет |
|
|
доктор филологических наук, |
|
|
профессор Успенская Анна Викторовна |
|
|
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов |
|
|
Ведущая |
Кафедра классической филологии |
|
организация: |
Петрозаводского Государственного университета |
Защита состоится «___» _______ 2012 года в ___ часов на заседании Диссертационного совета Д 002.209.02 при Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН по адресу: 121069, г. Москва,ул.Поварская 25а
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.
Автореферат разослан «____» ______________ 2012 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат филологических наук Быстрова О. В.
Общая характеристика диссертации
Данное исследование, осуществленное на стыке различных филологических дисциплин ― классической и русской филологии, с привлечением (там, где это касалось связи проблематики рецепции и образования) также истории педагогики, является первой в отечественной науке попыткой дать набросок целостной картины рецепции римской литературы во всем ее объеме в России широко понимаемой Императорской эпохи (т. е. от начала царствования Петра I с беглым обзором предпосылок, сложившихся в культуре Московской Руси XVI ― первой половины XVII веков и до революции 1917 г.). Выбор эпохи (точнее, ее условных границ) осуществлен исходя из характера образовательной практики, которая только в данный период включала в себя (по крайней мере начиная со среднего звена) гуманистический элемент: Московская Русь до XVII в. знала лишь элементарную школу, и XVII столетие представляет собой еще недостаточно исследованный переходный этап от элементарной школы к высшей (Славяно-Греко-Латинская Академия); здесь и далее под гуманистической культурой понимается культура, включающая в свои образовательные практики греко-латинский элемент в качестве одного из ведущих. Что же касается революции и пореволюционной эпохи, она была резко враждебна гуманистической культуре и (за исключением неудачного опыта сталинского периода) согласилась терпеть ее в конечном счете лишь в качестве одного из редуцированных элементов высшего образования.
Актуальность исследования. Несмотря на наличие большого количества исследований по рецепции римской литературы, интерес к которой усилился в течение последних десятилетий, мы можем отметить, с одной стороны, концентрацию исследовательского внимания к ведущим фигурам (А. С. Пушкин в трудах Т. Г. Мальчуковой[1], Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. Н. Майков в недавнем исследовании А. В. Успенской[2]); недавний труд Р. Л. Шмаракова[3], всеобъемлющий по охвату русского материала, посвящен одному античному автору. Появление исследования, которое давало бы общую картину рецепции римской литературы в России, является назревшим вопросом — частные исследования достигли такого уровня, когда, с одной стороны, стало возможным и настоятельным обобщение достигнутых результатов, а с другой — качественный прогресс невозможен без знания общего фона. Соображения актуальности и новизны заставили автора дать в сильно сокращенном виде материалы, касающиеся фигур первого ряда; весьма актуально в сложившейся ситуации и массированное привлечение фигур второго ряда.
Цель исследования — создать общую картину рецепции римской литературы в России и — насколько это окажется возможным — ее места среди прочих влияний, испытанноых соответствующими эпохами. Достижение указанной цели предполагало решение целого ряда теоретических и практических задач: 1) создать обоснованную периодизацию рецепции, 2) выявить список наиболее значимых имен — как первого, так и второго ряда, 3) выявить и проанализировать культурно-образовательные факторы, влияющие на рецепцию, 4) создать дифференцированную по жанрам, авторам и эпохам динамическую модель представлений русского общества в избранный период о римской литературе во всем ее объеме, и 5) дать хотя бы беглый и предварительный историко-культурный анализ описываемых процессов. Полнота охвата в данной области, конечно, недостижима. Как представляется, она может быть плодом совокупных трудов не одного поколения ученых и будет достигнута лишь в том случае, если исследовательские усилия не будут сосредоточены на ограниченном количестве выдающихся имен. Но широта, достаточная для того, чтобы дать общее представление о процессе во всей его совокупности, могла быть и ― как нам представляется ― была достигнута. Если наше исследование даст определенный набор реперных точек для поисков в указанном направлении, она целиком выполнит свою миссию.
Здесь же отметим ― поскольку это чрезвычайно важно прежде всего относительно практической значимости работы ― эдиционный аспект нашего исследования, затрагивающий поиск и идентификацию скрытых и открытых цитат. Нашей целью было внести хотя бы скромный вклад в повышение качества изданий на русском языке ― прежде всего примером более совершенной системы ссылок и цитирования, нежели принято в отечественных изданиях.
Объект исследования настоящей диссертации ― рецепция римской литературы прежде всего в русской литературе и в общественном мнении, насколько оно в ней выражается. Рецепция понимается как Fortwirken в «Истории римской литературы» Михаэля фон Альбрехта[4]. Обоснование понятия в его труде не дается, но соответствующий раздел непременно присутствует в рассмотрении любого автора; вслед за ним мы видим в рецепции «посмертное бытие» заданной совокупности текстов в конкретных пространственно-хронологических рамках (время — с конца XVII в. по начало XX, пространство — территория России, не включая территории, где западная культура доминировала до их вхождения в состав Российского государства: остзейские провинции, Царство Польское, Великое княжество Финляндское). Это посмертное бытие может существовать в разных формах: 1) как общее культурное достояние, для которого важна лишь принадлежность к престижному классическому миру (декоративные элементы — эпиграфы, «крылатые слова», надписи на арках, медалях и т. п.), 2) как совокупность переводов римской литературы на русский язык (в силу его бурного развития и быстрых изменений в первую половину указанного периода переводы устаревали довольно быстро, и вся работа XVIII столетия в XIX уже утратила актуальность), 3) как «общественное мнение» — совокупность суждений о римской классике как влиятельных, так и рядовых фигур, и, наконец, 4) как влияние классических литературных образцов на взгляды, жизнь и творчество их русских читателей. В качестве высшей формы рецепции мы рассматриваем универсализм — под которым мы будем понимать способность воспринять римское наследие в целом и оплодотворить им свое собственное творчество, а иногда — и жизнь. Безусловно, здесь не имеется в виду непременное знакомство со всеми памятниками римской литературы; для универсального подхода достаточно освоения и творческой переработки римской литературы во всем многообразии ее жанров с непременным условием пристального внимания к ключевым фигурам (Цицерон, Вергилий, Гораций, Овидий, Тацит). При этом знание латинского языка — фактор не решающий: Пушкин, не обладавший значительными филологическими познаниями, — представитель универсального подхода в его лучшем воплощении, поскольку сумел претворить в творчестве всю совокупность римских литературных влияний, а превосходный латинист Брюсов таковым не является: его интерес преимущественно сосредоточен на экзотическом и малоизвестном. Привлеченный материал (произведения изящной словесности всех жанров, письма, мемуары, журнальные публикации) прежде всего был ориентирован на широту исследования; задача углубленного рассмотрения отдельных вопросов, как правило, не ставилась. Из рассмотрения были сознательно исключены несколько направлений, лучше всего описанных отечественной филологической наукой: поскольку известный указатель Е. В. Свиясова (Античная поэзия в русских переводах. XVIII–XX вв. ИРЛИ, 1998) с достаточной полнотой отражает переводы античной поэзии в интересующих нас хронологических рамках, у нас не было необходимости подробно рассматривать этот аспект (хотя данные Е. В. Свиясова были также учтены в выводах работы и в определенной мере дополнены нашими изысканиями).
Предмет исследования — рецепция и совокупность культурно-образовательных факторов, оказывающих на нее влияние.
Материалом исследования стали литературные произведения, официальные документы, речи, публицистика, переписка, воспоминания, иные документы (как опубликованные, так и неопубликованные), содержащие следы влияния римской литературы и оценки ее — как в целом, так и отдельных авторов. Стремлением автора было охватить все возможные каналы трансляции общественного мнения — прежде всего образованных кругов, релевантные для данного предмета. Список исследованных источников, где эти следы были выявлены, приведен в перечне использованной литературы.
Метод работы — основанный прежде всего на традиционном филологическом анализе избранного корпуса текстов — был существенно дополнен. С методологической точки зрения важно — кроме филологического анализа текстов — прежде всего рассмотрение на фоне истории образования, которая помогает дополнительно аргументировать возможность (или невозможность) обращения той или иной фигуры, попавшей в сферу нашего внимания, к античным текстам в оригиналах или же в переводах. Чрезвычайно важен тот факт, что русская образовательная система, формирующаяся в XVIII и сформировавшаяся в XIX столетии, обладала значительно большей вариативностью, нежели большинство современных систем, и жизненные уклады, заложенные ею, также весьма разнообразны, в том числе и в интересующем нас аспекте. Естественно, педагогика рассматривалась не как самодовлеющая область, а в связи с постоянным фокусом ― рецепцией. Потому нас интересовало не само по себе преподавание языка: латынь была для нас важна как ключ к литературе, читаемой в оригинале. Прежде всего мы опираемся на разработанную нами концепцию пяти образовательных укладов, сложившихся в России XVIII в.
Важным методологическим новшеством исследования античной рецепции мы считаем библиотековедческие штудии. В работе использованы данные исследования лишь одной библиотеки из Отдела редких книг и рукописей НБ МГУ ― книжной коллекции знаменитого героя наполеоновских войн, кавказского наместника генерала А. П. Ермолова; обращались мы и к фрагменту личной библиотеки фаворита Императрицы Елизаветы Петровны и одного из основателей Императорского Московского университета И. И. Шувалова. В сотрудничестве с Мариной Владиславовной Ленчиненко идет исследование греко-римской части библиотеки воспитателя Александра и Константина, товарища министра народного просвещения и первого попечителя Московского учебного округа М. Н. Муравьева. Но это более чем перспективное направление нуждается в значительных исследовательских силах; было бы любопытно отслеживать судьбу не только личных коллекций в целом, но и изданий какого-либо конкретного автора либо группы авторов.
Главной методологической трудностью работы была необходимость постоянно учитывать возможность рецепции через вторые и третьи руки. Мы отдаем себе отчет в том, что, возможно, не все решения в этой области правильны и что может иметь место влияние новоевропейского промежуточного источника там, где мы видим античный. Уделить достаточного внимания источникам суждений было бы возможно лишь в рамках исследования индивидуального творчества той или иной из интересующих нас фигур; но трудов, на которые мы могли бы опереться в данной области, совсем немного.
Положения, выносимые на защиту:
1. Рецепция римской литературы была — наряду с рецепцией современных западных литератур и несколько уступая важнейшим из них — одним из важнейших факторов, обусловивших ход литературного процесса в России, особенно в период ее расцвета — во второй половине XVIII и в первой половине XIX в., а также в кратковременный предреволюционный период.
2. Своеобразие рецепции римской литературы в России сравнительно с Западной и Центральной Европой во многом определяется тем обстоятельством, что интенсивное освоение римского наследия совпало с эпохой интенсивного восприятия современной западной литературы; в результате мы имеем причудливую картину, образующуюся в результате наложения друг на друга нескольких «волн».
3. Чрезвычайно важным для начального этапа рецепции был нормативный характер римского литературного влияния; его следы не исчезли и после торжества романтической эстетики: так, напр., идеи эстетического совершенства неотделимы от интереса к творчеству Горация.
4. Римская литература в отдельные эпохи, оказывая влияние на русское общество, выходит за рамки литературы и непосредственно смыкается с жизненной практикой (Цезарь для участников наполеоновских войн, Саллюстий и Тацит для поколения декабристов).
5. Доминирование утилитарных тенденций в том или ином направлении общественной мысли и литературной критики имеет необходимым следствием попытку дискредитировать римскую литературу в глазах общества; аналогичные удары наносятся и по гуманистическому компоненту образования.
6. Напротив, пробуждение интереса к эстетическим ценностям в обществе неотделимо от роста внимания к латинской словесности; последнее является необходимым признаком всех эпох культурного расцвета в Росийской Империи. Насколько это доступно научному исследованию, влияние римской литературы как одной из областей античной — вслед за Ф. Ф. Зелинским и А. И. Зайцевым[5] — признается положительным фактором культурного развития.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые создается модель представлений русского общества императорского периода о римской литературе в развитии, дифференцированно по эпохам восприятия, по жанрам и авторам (она подробно описана в Заключении). Для многих авторов исследование рецепции римской литературы осуществляется впервые, как и вообще впервые предпринимается попытка «массового» изучения рецепции. Комплексный характер диссертации с привлечением дополнительных источников не в меньшей степени, нежели сама рассматриваемая модель, послужит ориентиром необходимых в нашей филологии исследований рецепции как античной, так и западноевропейских литератур.
Теоретическая значимость исследования прежде всего заключается в том, что привлечением образовательного фона создана надежная — насколько это возможно — база для исследования хода и характера рецепции; изучение образовательного бэкграунда каждой из рассматриваемых фигур является необходимым для проверки и корректировки выводов, сделанных на основании филологического анализа текста. Важным для теоретического аспекта работы является введение понятия универсализма — такого подхода к римской литературе, при котором для автора оказываются значимыми и важными все жанры и направления римской литературы в лице хотя бы важнейших их представителей. Универсализм не обязательно связан напрямую с образовательным уровнем. Более всего он характерен для второй половины XVIII — начала XIX в. Важным теоретическом аспектом является обоснование важности для изучения рецепции библиотековедческих штудий, некоторые из которых были исполнены самим автором.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее положения и выводы могут быть использованы в курсах истории античной и русской литературы на филологических факальтетах российских университетов, а также для повышения уровня издания литературных текстов и качества комментирования. Знакомство с данной диссертацией может послужить ориентиром для исследователей рецепции, указывая новые и перспективные направления, с одной стороны, а с другой — давая представление о роли и месте каждого конкретного явления в рамках культурного развития Российской Империи за весь период ее существования.
Апробация работы. Основные теоретические положения диссертации обсуждались на расширенном заседании Научно-методического совета Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова 22 мая 2009 года; отдельные положения и разделы — на конференции «Античность в современном измерении», посвященной 35-летию научного кружка КГУ «Античный понедельник» и проведенной в Казани 14–16 ноября 2001 г. (техника рецепции в эпических произведениях), на международном конгрессе в Ассизи, посвященном Проперцию (properzio nel genere elegiaco. Modelli, motivi, riflessi storici. Atti Convegno Internazionale. Assisi, 27–29 maggio 2004), на конференциях памяти И. М. Тронского в Институте лингвистических исследований (Санкт-Петербург) — 20–22 июня 2005 г. (IX), 19–21 июня 2006 г. (X), и 22–24 июня 2009 г. (XIII); 21–23 июня 2010 г. (XIV); 20–22 июня 2011 г. (XV); прогресс, который исследование рецепции могло бы обеспечить в издательской практике, обсуждался 1 ноября 2007 года на конференции ИРЛИ (Пушкинского Дома) в Санкт-Петербурге — «Ревнители российского Просвещения: М. Н. Муравьев (1757 – 1807), И. П. Тургенев (1752 – 1807) и М. М. Херасков (1733 – 1807)» и на Круглом столе, посвященном памяти выдающихся деятелей русскаго Просвещения И. П. Тургенева, М. Н. Муравьева, М. М. Хераскова (1807–2007 гг.) и организованном 20 декабря 2007 года в Научной библиотеке МГУ, в докладах, посвященных проблематике комментирования русского исторического эпоса XVIII в.
Структура исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, библиографии и списка сокращений. Введение посвящено истории вопроса; первая глава «Римская литература и латинская образованность» рассматривает образовательный фон рецепции и анализирует возможности выпускников различных учебных заведений Российской Империи знакомиться с римской литературой в оригиналах и переводах; вторая глава — «Рецепция римской литературы в России XVIII века. Путь к вершине» — посвящена рецепции в XVIII столетии, подразделяясь на эпохи от Петра до Елизаветы, екатерининскую и павловскую; в последнем разделе — в качестве примера подробного анализа — изучается влияние латинской эпики на Россиаду Хераскова; третья («Рецепция римской литературы в первой половине XIX века. Романтический экзамен») и четвертая («Рецепция римской литературы во второй половине XIX и в начале XX века. Восстановление утраченных позиций») главы охватывают XIX в. и начало XX; они посвящены: третья — старшему поколению, поколение П. А. Вяземского и К. Н. Батюшкова, поколению Пушкина и декабристов и поколение славянофилов и западников; четвертая — эпохе от шестидесятников до начала XX в. и от В. С. Соловьева до акмеистов. Заключение подводит итоги работы. Список использованной литературы содержит всего 426 наименований. К работе приложен Список сокращений.
Введение
Во введении рассматривается история вопроса и дается оценка немногочисленным исследованиям, затрагивающим тот или иной аспект проблемы в целом. В той области, которая является предметом нашего исследования, обобщающих трудов нет. Уже отмеченный указатель Е. В. Свиясова (представляющий выдающееся достижение отечественной филологии) затрагивает только стихотворные переводы и близкие к оригиналу переложения; книга Э. Д. Фролова рассматривает (правда, широко понимаемое) отечественное антиковедение; монография Г. С. Кнабе «Русская античность» ― скорее культурологическое, нежели филологическое исследование, не решающее вопроса об источниках, не добавляющее существенных сведений и не могущее претендовать на полноту. Кроме того, дается характеристика современного этапа в исследовании античной рецепции (труды Т. Г. Мальчуковой, М. Я. Паит, А. В. Успенской, Р. Л. Шмаракова и др.), излагаются методологические предпосылки и принципы работы (отраженные в первой части нашего автореферата).
Глава I. Римская литература и латинская образованность
В данной главе рассматриваются предпосылки рецепции античной культуры, сложившиеся в XVI–XVII столетиях. Если в эпоху Ивана Грозного для того, чтобы читать Цицерона, нужно было эмигрировать (кн. Андрей Курбский), то по окончании Смуты церковный раскол, приток ученых из Греции и Киева и культурные запросы двора создают предпосылки для создания школ более высокого типа, что соответствует и общественным потребностям (Алексей Саввич Романчуков, провожатый Адама Олеария, проявляет глубокий интерес к латинскому языку и пользуется своим дипломатическим поручением, чтобы познакомиться с ним; это единственный случай, нам известный для XVII в., но он симптоматичен). Борьба греческого направления (ярчайшие представители ― братья Лихуды) и латинского (Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев) дает противникам латыни лишь временный перевес: западные влияния, проникшие с Петром Алексеевичем, меняют картину. Нельзя, однако, считать петровское образование гуманистическим: оно (по крайней мере до введения Духовного регламента и создания на его основе системы духовных училищ) имело строго утилитарный характер. Ранние мероприятия царствования в области просвещения следует признать неудачными; но поздние (создание системы духовных семинарий по образцу католических коллегиумов, а также Императорской Академии наук с университетом и гимназией) оказываются плодотворными. В Киеве, Москве, а затем и в других губернских городах создается тип образованного клирика ― первый тип русского «гуманиста»: знаток древних языков (без свободного владения новыми), способный вести диспут на латинском языке и писать на нем, в случае достаточного усердия и любопытства весьма начитанный в классической литературе (сама по себе программа в этой области обильной не была). На семинарской почве расцветает русское барокко. Три четверти столетия семинарии будут становым хребтом русской образовательной системы ― это готовит почву для лучшего восприятия гуманистической культуры. Аристократический тип гуманиста в петровскую и ближайшую к ней эпоху представляет собой исключение; правда, к их числу относится столь яркая фигура, как А. Д. Кантемир. К тому же времени относится и первый этап проникновения латинских писателей в русскую культуру ― Цезаря, Ливия, Овидия, Ювенала.
Анненское десятилетие знаменуется созданием дворянской образовательной системы ― в Петербурге основывается Сухопутный Шляхетский кадетский корпус (1731 г.). Будучи не военным, а именно сословно-корпоративным учебным заведением, он создает образец дворянского воспитания; его можно назвать «гуманистическим» лишь с натяжкой, поскольку знание древних языков не предполагается; однако владеющий немецким и французским дворянин ― при условии достаточного усердия и любопытства ― мог познакомиться с памятниками классической древности в новоязычных переводах. Этот воспитательный тип готовит почву для русского классицизма. К числу выпускников Кадетского корпуса относятся уже на раннем этапе такие фигуры, как А. П. Сумароков и М. М. Херасков.
При Елизавете Петровне осуществляется импорт основной западной образовательной модели ― университета. При нем создаются и средние общеобразовательные учебные заведения, созданные под сильным влиянием гуманистической педагогики, ― гимназии сначала в Москве, затем в Казани. Московская дает основательную подготовку по древним языкам, включая знакомство с авторами. Отсюда выходит элита русской культуры ― Д. И. Фонвизин, М. Н. Муравьев, из Казани ― Г. Р. Державин, впоследствии явивший собой ― для своей эпохи ― своеобразное русское воплощение Горация.
Екатерининская эпоха ― время экстенсивного развития. Практически до самого конца она бесплодна для образовательных систем: лишь в восьмидесятых годах создается массовая элементарная школа (сама по себе невысокого уровня, но важная как предпосылка для будущей гимназической системы). Однако экстенсивное развитие осуществляется широко. Впервые мы сталкиваемся с конкурирующей если не образовательной, то просветительской программой: с высоты престола поощряются переводы языческих авторов (сама Императрица побуждает своего «карманного стихотворца» В. П. Петрова переложить Энеиду), а в Москве масонское объединение при деятельном участии Н. И. Новикова осуществляет независимую издательскую программу, где языческих авторов нет, но есть латинские Отцы Церкви ― прежде всего Августин. Для этой эпохи характерно и попадание латинской классики в орбиту оппозиционной мысли (А. Н. Радищев).
Павловское интермеццо проходит для просвещения практически бесследно. Новое же царствование несет всеобъемлющую реформу. Там, где были лишь элементарные школы, создаются гимназии (правда, лишь с поверхностным четырехлетним курсом). Во главе учебных округов встают университеты, половина которых создается с нуля. Семинарии, лишенные прежней функции поддержки образовательной системы в целом, замыкаются в рамках сословно-корпоративных задач (чтобы к середине столетия стать одним из источников нигилизма, как политического, так и культурного; вражда вышедших оттуда знатоков латинского языка к римской культуре станет одним из определяющих культурообразующих факторов второй половины столетия). Напротив, поверхностно образованные дворяне усваивают античную культуру с большим рвением (С. П. Шевырев, окончив учебное заведение без древнегреческого языка ― Вольный Благородный пансион при Московском университете ― уже вполне сложившимся человеком знакомится с ним основательно; но такие случаи представляют собой скорее исключение). В поколении декабристов есть очень образованные люди, знакомые с античной литературой по оригиналам (Н. М. Муравьев. А. Ф. Бриген).
Расцвет русской школы связан с именем С. С. Уварова ― аристократа, получившего блестящее домашнее воспитание, ценящего античность и понимающего роль гуманистического компонента в образовании. Устав 1828 года резко ― с 4 до 7 лет ― увеличивает продолжительность гимназического курса и заменяет разбросанную, многопредметную программу выверенной, с обоими древними языками. Но юношество этой эпохи живет под воздействием эстетических взглядов, менее всего благоприятных античности и римской культуре в особенности: романтическая эстетика вышла на «школьный» уровень и вступила в успешную борьбу за умы и сердца молодежи. Культурный эффект уваровской гимназии потому не слишком сказывается на рецепции: ее выпускники ― поколение И. А. Гончарова, Я. П. Полонского, А. А. Фета ― не демонстрируют особой приверженности к античной литературе. Последний из названных авторов является скорее исключением ― и его переводческая деятельность, как и собственное творчество, будучи вполне независимы от господствующего течения и враждебны ему, не получают популярности. Доминирующей в обществе становится позиция В. Г. Белинского, который, не обладая лингвистическими способностями и получая информацию в основном из вторых-третьих рук, «со слуха», впитал свойственное тогдашней немецкой эстетике враждебное отношение к римской классике. В его статьях отзывы о Горации и Вергилии отличаются пренебрежением, усиленным восторгом новичка-ниспровергателя кумиров (о самостоятельном знакомстве с памятниками античной словесности речи идти не может; кое-что прочитывается в русских переводах).
В 1849 г. Императорское правительство, испуганное революционными событиями в Европе и опасающееся республиканских взглядов, которые могли бы получить популярность из-за чтения античных классиков, наносит серьезный удар по античному компоненту в образовании. Он восстанавливается гимназическими уставами 1864 и 1871 гг. Но классическая гимназия гр. Д. А. Толстого ― наиболее последовательный гуманистический образовательный проект в России ― не пользуется общественной популярностью, и главным ее недостатком считается как раз доминирующая роль древних языков. Античная литература уходит на периферию общественного сознания, где она и будет пребывать до начала XX в. Ведущей фигурой 60-х гг. становится «разночинец» ― в наиболее ярком виде этот тип представлен семинаристами, хорошо владеющими латинским языком, но сознательно отвергнувшими доступную им римскую словесность по внеэстетическим мотивам, которые представляются единственно ценными. Интересно, что падение престижа античной литературы идет рука об руку с ростом количества и качества историко-филологической работы русских исследователей.
Запас антикультурных аффектов до определенной степени перегорает в революции 1905–1907 гг. Возрождение эстетических ценностей не оставляет в стороне и античную (в т. ч. римскую) литературу: не только Эсхил и Еврипид, но и Вергилий с Авзонием приковывают внимание ведущих фигур в культуре эпохи.
Глава II. Рецепция римской литературы в России XVIII века. Путь к вершине
Культурную специфику начала XVIII века определяют две преобразовательных волны, которые причудливо накладываются друг на друга: преобразования «естественного» темпа, накопившие (в особенности в связи с проблемой раскола) критическую массу в образовательной области, что привело к созданию Славяно-Греко-Латинской академии, осуществляемые под влиянием католического Запада (прежде всего Польши), и петровская реформа под сильным влиянием протестантизма. В культурном отношении первая из них готовила почву для восприятия ценностей западноевропейского гуманизма прямо, вторая — лишь косвенно, поскольку ориентировалась на практическую эффективность и немедленный результат, а не на воссоздание подготовивших его культурных предпосылок. Ситуация меняется только к концу петровского царствования, когда в России возникает мысль (вскоре реализованная) об учреждении Академии наук. В течение XVIII столетия в России складывается пять различных образовательных систем, каждая со своими особенностями культурной шлифовки, иногда весьма различными. Это системы образования духовного, военно-дворянского, общего, домашнего и заграничного. Ни одна из наличных образовательных моделей не рассматривала античную литературу вообще и римскую в частности как важное образовательное средство. Таким образом как для семинаристов, так и для дворян знакомство с нею представляло собой плод личного образовательного усилия. Сам по себе Петр I со своим практическим умом, отвечавшим на потребности ведущей тяжелую борьбу страны, вряд ли ценил в должной мере образовательное и воспитательное значение классических древностей. Практическими целями вызван его интерес к Цезарю и Ювеналу. Декоративный характер латинских цитат очевиден прежде всего в их использовании для триумфальных арок и медалей; здесь доминируют мотивы пропаганды и престижа. Сильно чувствуется посредник — польское влияние (так, в описаниях триумфальных арок Юпитера не раз именуют Йовишем). Краткий период «немецкого засилья» при Анне Иоанновне — плодотворный для истории русского стиха — в отношении рецепции остается «нейтральным»: Германия не играет существенной роли как посредник.
Елизаветинская эпоха внесла два важных новшества. С одной стороны, на столетие вперед закладывается преобладание французского языка и французской культуры в воспитании русской аристократии; прежнее доминирование германского элемента (голландско-немецкого при Петре и немецкого при Анне Иоанновне) вернется уже в XIX в., в виде «философского реванша». Французский язык становится универсальным проводником для западной культуры в целом (что видно на примере таких выдающихся дворян, как И. И. Шувалов, с их энциклопедическими интересами, включающими, — правда, на периферии, — и античность, прежде всего древнюю историю).
Наиболее крупным и влиятельным представителем образованного духовенства в России является Феофан Прокопович (1681–1736). Он — подлинный образец универсализма: трактат О поэтическом искусстве демонстрирует знакомство с римской традицией во всей ее полноте, а речи — умение применять заимствованные элементы для собственных литературных целей. Важную роль в усвоении начал античной образованности играет творчество широко начитанного «киевлянина» Стефана Яворского (1658–1722). Если представители духовенства, прошедшие выучку в Киеве и за рубежом, представляют собой хотя и немногочисленную, но единую и заметную группу, выдающиеся представители светской образованности в эту эпоху могут считаться скорее исключением. К их числу относится князь Антиох Дмитриевич Кантемир (1709–1744), переводчик Горация; прежде всего он обязан своей блестящей эрудицией домашнему образованию. Василий Никитич Татищев (1686–1750), получивший заграничное образование, демонстрирует другой тип усвоения рецепции — утилитарный, во вкусе петровской эпохи (так, он один из очень немногих, кто знаком с творчеством Валерия Флакка, но это обусловлено исключительно его профессиональным интересом к ранней истории земель, входивших в состав Российской Империи).
«Переходной» между типами духовной и светской культуры является фигура Василия Кирилловича Тредьяковского (1703–1769), получившего духовное образование в Астрахани и продолжившего обучение за границей. Мы видим у него и завидную широту классического образования, достигнутую вовсе не за счет глубины, и бескорыстное отношение к римскому наследию как самодовлеющей эстетической ценности (чего в такой степени не было даже у Кантемира). Фигурой, связывающей две половины столетия, является самая масштабная личность русского XVIII века — Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765), чей расцвет приходится на елизаветинскую эпоху; его образовательная траектория похожа на таковую же В. К. Тредьяковского — за исключением того факта, что решающей для него стала немецкая культурная традиция, а не французская. Позиция его в отношении рецепции, по мнению Л. В. Пумпянского, такова: разумность государства и его мусической жизни имеют следствием то, что у них общий оригинал — античность; лучшее, что можно сделать, — сравняться мощью и славой с Римом, а мудростью — с Афинами[6]. Обладая универсальным образованием в античной области, Ломоносов перелагает в стихи и вставляет в торжественные оды пассажи из Цицерона и Плиния Младшего, соревнуется с Вергилием и переводит Памятник Горация.
Новый — уже чисто «дворянский», французского склада — тип представляет собой Александр Петрович Сумароков (1717–1777). Для него уже не идет речи о знакомстве с древними языками: античная традиция усваивается при посредничестве французской. Новоевропейское влияние в творчестве Сумарокова доминирует (это будет особенностью всей дворянской традиции), однако его нельзя признать и пренебрежимо малым.
Принципиально важна для рецепции римской литературы в России екатерининская эпоха — прежде всего потому, что она в принципе является эпохой значительного (и в литературной области недооцененного) культурного расцвета, в числе питательных элементов которого не может не присутствовать римская классика. Во-вторых, наступает пора пожать культурные плоды прежних образовательных усилий — духовные семинарии, столичные гимназии и университеты создают критическую массу образованных людей, способных составить общество, которое могло бы выступать самостоятельным игроком на культурном поле (к концу царствования общество заявит о себе и как оппозиционный игрок). Сама Императрица Екатерина Алексеевна (1729–1796) — первая на русском престоле представительница европейской образованности и европейских культуроно-философских интересов во всей их полноте — античностью интересуется мало; тем не менее Тацит относится к числу авторов, повлиявших на ее мировоззрение. Она будет поощрять переводы античных классиков (ее «карманный стихотворец Василий Петрович Петров (1736–1779) создал прекрасный перевод Энеиды александрийскими стихами — это не менее важное культурное событие, нежели неоконченная костровская Илиада, но не привлекавшее исследовательского внимания); корпус переводов античных авторов, сложившихся к концу екатерининской эпохи, весьма велик и включает в себя в том числе и имена второго-третьего ряда (Веллей Патеркул, Федр). Вергилий удостаивается даже пародии. Воспоминаниями античного мира по-прежнему пользуются ради престижа (таково, напр., переименование Хаджи-Дере, ошибочно отождествленного с Томами, в Овидиополь).
Велика — не только с точки зрения просвещения, но и с точки зрения рецепции — роль многочисленных иностранных профессоров, приглашенных в обе столицы. Они дают большую часть латиноязычной прозы, написанной на территории Российской Империи; в переводах эта проза — вместе с многочисленными цитатами из античных авторов — становится доступна более широким общественным кругам, нежели профессорско-студенческая аудитория. Философское и политическое образование играет аналогичную роль: автор самого популярного учебника вольфианской философии, Фридрих Христиан Баумейстер, обильно цитирует римских авторов (прежде всего Теренция). Определенное количество публикаций (и оригинальных, и переводных) о римской литературе — обобщающего характера — появляется в периодической печати. Таким образом можно констатировать — наряду со школой и переводами — наличие многочисленных каналов рецепции.
Крупнейшими представителями екатерининской эпохи являются Михаил Матвеевич Херасков (выпускник кадетского корпуса, 1733–1807) и Гавриил Романович Державин (выпускник Казанской гимназии, 1743–1816). Первый из них — универсал; он пишет и героический, и дидактический эпос (некоторые черты римской классики можно увидеть в короткой поэме Плоды наук), и оды — как торжественные, так и философские, и пьесы, и прозаические романы. Универсально в его творчестве восприятие римской поэзии: в героическом эпосе Россиада отражены Вергилий, Овидий и Лукан; в философских одах — Гораций; он посвящает стихи Августину. Второй — переводчик Горация и «русский Гораций», соперник римского поэта в глазах публики. Сравнительно недавно в работах Майи Яковлевны Паит было доказано, что обращение к Горацию у Державина — раннее и самостоятельное, вопреки мнению крупнейшего специалиста Якова Карловича Грота. Для собрания сочинений Державин берет эпиграфы к разным томам из Плиния Младшего и Тацита. По сведениям Петра Андреевича Вяземского, Тацита переводил (или собирался переводить) еще один крупнейший писатель эпохи, сохранивший свое значение и «школьный» статус до нынешних дней, — выпускник гимназии при Московском университете Денис Иванович Фонвизин (1745–1792).
Федор Яковлевич Козельский (р. 1735, учился в Киево-Могилянской академии и впоследствии в Академической гимназии в Петербурге) — один из немногих, кто разрабатывает жанр элегии, в XVIII столетии маргинальный в русской литературе; в его элегиях можно встретить цитаты из Проперция, вообще не пользующегося большой читательской популярностью; в его поэмах можно усмотреть следы влияния Вергилия, а также Овидия. Знатоком латинских древностей был граф Петр Васильевич Завадовский (1739–1812, выпускник иезуитского коллегиума в Орше и Киевской академии, впоследствии — первый министр просвещения Российской Империи). Среди авторов, с которыми он знаком и которых он цитирует, — не только Вергилий, но и Лукан и Светоний. Ипполит Федорович Богданович (1743–1802/1803) помещением в Московский университет обязан М. М. Хераскову, который отговорил его от занятий актерским ремеслом. Современникам он запомнился как автор одного произведения — Душеньки, сочиненной по мотивам Метаморфоз Апулея. Выдающейся во всех отношениях фигурой нужно считать Александра Николаевича Радищева (1749–1802). Он получил неплохое домашнее образование, учился в Пажеском корпусе и в Лейпцигском университете (в т. ч. слушал лекции знаменитого профессора Христиана Фирхтеготта Геллерта). По мнению Л. В. Пумпянского, это один из образованнейших русских людей вообще, в XVIII же столетии исследователь отдает ему пальму первенства (К истории русского классицизма: «Тип его образования — лучшее, что могла создать докантовская философия и допушкинская поэзия; он представитель той степени серьезности народного образования, на которой слагаются продуманные произведения философские и поэтические, принадлежащие, тем не менее, не философии и не поэзии, а именно образованию страны».)[7]. Цицерона Радищев ценит не слишком высоко, как конформиста с «нередко низкой» душой; Овидию он сочувствует как жертве императорского произвола; очень высоко ставит Тацита; цитирует — применительно к цензуре — историю, пересказанную Сенекой Старшим. В поэзии Радищева сказывается влияние Горация.
Одной из самых выдающихся фигур по образованности и культурным заслугам является Михаил Никитич Муравьев (1757–1807), учитель Великих Князей Александра и Константина и первый товарищ министра народного просвещения и попечитель Московского учебного округа. А. Н. Егунов проницательно и верно характеризует его как дилетанта, способного создавать первоклассные вещи[8]. Он является наиболее блистательным представителем универсализма: в его собственном поэтическом творчестве отражаются Вергилий, Гораций и Лукан, он переводит Проперция и создает — за счет отрывков из Тускулан — первую небольшую переводную антологию латинской архаики. Рукописные переводы на полях лионского издания Тускулан были обнаружены научным сотрудником Отдела редких книг и рукописей НБ МГУ Мариной Владиславовной Ленчиненко и частично опубликованы в сотрудничестве с автором этих строк (№ 23 списка публикаций). Муравьев переводит и публикует стихотворный отрывок из Петрония, посвященный гражданской войне; переводит Проперция, высказывает недовольство творчеством Катулла (и частично Горация, когда тот нарушает приличия) в нравственном аспекте, хотя Гораций для него «первый из лириков»). В учебной прозе, предназначенной для Великих Князей, рассыпаны проницательные суждения о римских историках.
Николай Петрович Николев (1758–1815) — воспитанник княгини Е. Р. Дашковой. Видный драматург и автор од, он в юности находился под сильным влиянием Плиния Старшего; впоследствии его место занял более близкий по времени авторитет — Бюффон. Николев пишет Подражание святому Августину, созерцающему с одной стороны Иисуса Христа распятого, а с другой Иисуса Христа младенцом, сосущим млеко из грудей Девы. Значительно влияние римской словесности на крупного поэта Ивана Ивановича Дмитриева (1760–1837), человека дворянской культуры «французского» типа. Федор Ильич Козлятев, играющий при нем роль magistri elegantiarum, дает ему прочесть в качестве пособий по изящной словесности не только курсы Баттё и Мармонтеля, но и книгу Квинтилиана. Прежде всего в его творчестве сказывается влияние легкой поэзии — Катулла, Тибулла, отчасти Горация. Реминисценции из римской литературы есть и в творчестве известного масона и мистика Семена Сергеевича Боброва († 1810 г.), получившего начальное духовное образование и продолжившего учебу в Московском университете. Он берет для поэмы Древняя ночь Вселенной эпиграфом реплику из Гортензия (frg. 112 Grilli), а во второй части переводит этот эпиграф стихами, и пишет балладу о могиле Овидия, ассоциируя Томы с Темешваром. Его поэзия — и крупных жанров, как Херсонида, и малых форм — изобилует реминисценциями древнеримских поэтов. Отметим талантливого переводчика овидиевых Тристий — Ивана Евсеевича Срезневского (1770–1819), отца знаменитого филолога-слависта. Он учился в Рязанской семинарии и в Московском университете. Издание переводов Овидия вышло с латинским текстом en regard и содержало прекрасный комментарий, свидетельствующий о широком кругозоре автора (он включил в примечания, напр., несколько своих переложений эпиграмм Авзония).
Роль клириков в литературе екатерининской эпохи намного ниже, чем в эпоху Петра, и ниже, чем в предшествующую. В качестве примера приведем Михаила (в иночестве Моисея) Гумилевского (1747–1792), переводчика Псевдо-Дионисия Ареопагита и Макария Египетского. Выпускник Владимирской семинарии и Славяно-Греко-Латинской академии, впоследствии он преподавал в ней древнееврейский и греческий языки; дослужился до префекта. Он пользуется мотивами знаменитой энниевой автоэпитафии; в идиллии phoebus подражает Вергилию. В эпистоле Михаила Гумилевского московскому архиепископу Платону автобиографическая тематика толкуется в духе Овидия и его выражениями.
В екатерининском царствовании выделяется поколение, которому пришлось созреть еще в данную эпоху (родившиеся в 60-х гг. XVIII в. и позже); как правило, к концу царствования (или к эпохе павловского интермеццо) относится начало их культурного творчества. Крупнейшим представителем этого поколения является Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) — питомец домашнего пансиона профессора Императорского Московского университета Иоганна Маттиаса Шадена. В трудах Карамзина отражается знакомство с Цезарем, Саллюстием, Ливием, Тацитом; он ценит Цицерона, Вергилия и Овидия, переводит Лукана, ссылается на Естественную историю Плиния Старшего; универсалистскому характеру его творчества соответствует и универсальный характер рецепции. Для Василия Львовича Пушкина (1766–1830, знаток французского языка и латыни) одним из ключевых авторов был Катулл; он знал наизусть многие оды Горация.
Вторая половина столетия дает несколько примеров универсального характера рецепции; можно сказать, что это «золотой век» рецепции римской литературы в России вообще. Римская литература воспринимается как единое целое; мы не сталкиваемся с попытками отвергнуть на тех или иных основаниях какую-либо ее часть как малоценную. Влияние эстетических ценностей, воплощенных в латинской словесности, в данную эпоху исключительно велико и может конкурировать с любым другим.
Глава III. Рецепция римской литературы в первой половине XIX века. Романтический экзамен
Начало XIX века, как и начало предыдущего столетия, ознаменовано наложением друг на друга двух волн — культурной, которая была — не исключительно, но и не в последнюю очередь — одним из кругов от падения монархии Бурбонов во Франции, и образовательной (реформы 1802–1804 гг. имеют отчасти тот же источник). Культурный фон задается концепцией «категориального перелома», который протекает в европейских литературах по¬следней трети XVIII века и состоит в переходе от риторически структурированной эстетики «подражания и соревно¬вания» к концепции гениальности и ори¬гинального творчества[9]. Для рецепции римской литературы важен тот факт, что падает престиж и влияние французской литературы (для которой отказ от римского наследия был бы равен самоубийству) и, напротив, повышается престиж литературы немецкой и английской (где он равен эмансипации).
Прежде всего в главе рассматривается старшее поколение деятелей, выдвинувшихся в XIX в. Ровесник М. Н. Муравьева, граф Дмитрий Иванович Хвостов (1757–1835) также обязан своим образованием Московскому университету (с предварительным домашним и пансионским обучением, очень высокого качества). Вне сомнения его широкая эрудиция, знание древних и основных новых языков. Наиболее значимый отрезок публичной деятельности Д. И. Хвостова приходится на первую треть XIX в.; однако сформировался он как человек века XVIII и как таковой рассматривался более молодыми современниками. Он разделяет версию, что пьесы Теренция писаны Сципионом, и ставит их ниже мольеровских; использует в творчестве мотивы римской сатиры, Поэтическое искусство и Памятник Горация, реминисценции Метаморфоз; считает упадочным творчество Сенеки Младшего и Лукана с его Фарсалией; зато Федр (которого он относит к эпохе Августа) удостаивается его одобрения и становится предметом подражания. Исключительное положение Хвостова в русской поэзии 10-х — 20-х годов XIX в. — положение привилегированной жертвы поэтов пушкинского круга — делает его реабилитацию вопросом уже ближайших лет или в крайнем случае десятилетий. Важно, чтобы издания его стихов, которым предстоит появиться, обладали достаточным филологическим уровнем; в частности, чтобы античный слой его поэзии — и римский в частности — был вскрыт и проанализирован.
Иван Матвеевич Муравьев-Апостол (1765–1851), двоюродный брат Михаила Никитича Муравьева, проучившийся год в «Василеостровской академии» (пансионе Леонарда Эйлера в Петербурге), получил блестящее домашнее воспитание, обнаружив прекрасные способности к древним и иностранным языкам. Несомненно, он относится к образовательной элите своего поколения. Письма из Москвы в Нижний Новгород (1813–1815), проникнутые ненавистью к современной Франции, представляют собой великолепный памятник римской учености: многочисленны цитаты из Вергилия, Горация, Ювенала, в Продолжении — Лукана; автор рассуждает о Саллюстии, ссылается на Тацита и посвящает 12-е письмо язвительному анализу недавно вышедшего французского перевода Клавдиана, сам переводит (правда, очень немного) Цицерона и Горация, пишет о Сатириконе прекрасную новеллу во вкусе Петрония. Дворянский эстетизм (правда, отягощенный благоприобретенной галлофобией) сочетается у него с широким и далеко не поверхностным знакомством с римскими классиками. Эти познания оплодотворяют его литературное творчество. Характер же творчества можно было бы — как и творчества М. Н. Муравьева — обозначить как дилетантский — и тоже только в смысле объема, а не качества. Заслуживает внимание положительное отношение к Клавдиану; противопоставления поздней литературы августовскому классицизму в мысли И. М. Муравьева-Апостола нет. Знаменитый государственный секретарь при Александре I и кодификатор русского законодательства при его преемнике, Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) получил духовное образование. Еще в молодости он написал учебник риторики, изданный лишь посмертно; там содержится целый свод проницательных суждений о римских авторах[10]. Чрезвычайно интересная фигура — знаменитый генерал, герой наполеоновских войн и «кавказский проконсул» Алексей Петрович Ермолов (1777–1861). Получив достаточно поверхностное дворянское воспитание, он прекрасно овладел латинским языком по собственной инициативе. Он интересовался Цезарем, по-видимому, собирался переводить Записки. В битве при Прейсиш-Эйлау в критический момент Ермолов повторяет решение, описанное в BG I, 25, 1. Он охотно цитирует Вергилия, Горация, Проперция, Лукана; собирает прекрасную библиотеку, где латинские классики были представлены практически полностью; некоторые — не в одном издании. Его знакомство с латинской литературой универсально, как и ее влияние на его творчество и личность. Генерал Ермолов — явление, для русского офицерства выдающееся, но не уникальное. Как полиглоты известны выдающиеся русские полководцы — Александр Васильевич Суворов и Михаил Илларионович Кутузов. Но — исходя из особенностей военно-дворянского воспитания и подготовки к службе эта эрудиция является результатом мощного индивидуального усилия.
Интересной фигурой является Яков Андреевич Галинковский (1777–1816) дающий в журнале «Корифей» читателям очерк мировой — в т. ч. и римской — литературы в разных жанрах. Алексей Федорович Мерзляков (1778–1830, Пермское Главное народное училище и Московский университет) — ключевая фигура культурной истории России первых трех десятилетий XIX в. Это один из первых представителей пестуемого Екатериной «третьего сословия», добравшихся до вершины российского Парнаса. Многочисленны критические статьи, практически не собранные; они, на наш взгляд, делают Мерзлякова одним из лучших русских критиков и представляют собой наиболее интересную часть его наследия; он видный поэт, переводчик (античные поэты, Тассо) и теоретик литературы. Широта эрудиции, знакомство с древними и основными новыми языками несомненны; на этом фоне поражает отсутствие филологической компетентности и бесплодность чтения. Вергилий и Гораций — наиболее авторитетные для него авторы. Фарсалию он ставит не слишком высоко. Он — один из пионеров пренебрежительного отношения к эпосу эпохи зрелой и поздней Империи. Резюмируя суждения Мерзлякова о латинской словесности, можно ощутить в них сопротивление «духу века» на уровне классической литературы эпохи Августа и безнадежную сдачу позиций Серебряной латыни. Еще одна уникальная черта — своеобразный «утилитаризм наоборот»: будучи профессором красноречия и поэзии, он черпает вдохновение только в римской поэзии, но непохоже, чтоб на него оказала влияние теоретико-литературная мысль или ораторская проза Рима. Кроме упомянутых, в разделе рассматриваются фигуры Якова Васильевича Толмачева (1779–1873) и Григория Николаевича Городчанинова (1772–1852). Первым же поколением, выступившим на сцену уже в XIX в., является поколение П. А. Вяземского и К. Н. Батюшкова. Василий Андреевич Жуковский (1783–1852, учился в Благородном пансионе при Московском университете) оставил немного как отзывов о римской классике, так и реминисценций — значительно меньше, нежели у более молодого Батюшкова. Он перевел ІІ книгу Энеиды и отрывок из XI кн. Метаморфоз — историю о Цеиксе и Гальционе, интересовался творчеством Горация, который был для него в философском отношении ближе Ювенала.
Соперник Жуковского по переводу Гомера Николай Иванович Гнедич (1784–1833) известен прежде всего как эллинист. Главный его подвиг — перевод Илиады, который по справедливости считается одним из высших достижений отечественной переводческой школы. Но он является и знатоком Вергилия, хотя не слишком ценит его эклоги. В письмах он часто цитирует Вергилия — в особенности Георгики. Владимир Сергеевич Филимонов (1787–1858, получил юридическое образование в Московском университете) делает несколько очень неплохих переводов од Горация, использует в оригинальном творчестве — наряду с горацианскими — мотивы Катулла. В поэме Дурацкий колпак он дает проницательный отзыв: «Вольтеров друг, антибайрон, / О врач уныния, Гораций!», использует для отдельных глав своего Обеда марциаловские эпиграфы, демонстрируя неплохой кругозор в латинской поэзии. Константин Николаевич Батюшков (1787–1825) получил воспитание в частных пансионах и впоследствии — в доме своего двоюродного дяди, М. Н. Муравьева, где сформировался его литературный вкус и пристрастие к римской и новейшим литературам. Он хорошо знал латинский язык; тем не менее итальянские и французские влияния в его творчестве преобладают над влиянием Рима. Он детально знаком с творчеством Горация, претендует на роль «русского Тибулла» (как и русского Парни), поклонник Овидия. Описание дворца Гипноса в Киммерии (met. XI, 597 слл.) было использовано К. Н. Батюшковым в прозаическом опыте Похвальное слово сну. Он восхищается Тацитом и читает Сенеку. Для его творчества и в области рецепции характерно преобладание малых жанров над крупными. Валериан Николаевич Олин (ок. 1788—1840? Первоначальное образование получил в народном училище) — стихотворец, переводчик и журналист. Его интересы были широкими и случайными — от античности до Оссиана и Байрона. В 1818 году он начинает издавать «Журнал древней и новой словесности», эклектичный уже по заглавию. Но нельзя не отметить, что это едва ли не единственное издание (рядом можно поставить только журнал «Корифей» Галинковского), которое ставило бы перед собой задачу пропаганды античной словесности. Не заслуживает забвения замечательное подражание знаменитому стихотворению Катулла на смерть воробья Лесбии. Михаил Васильевич Милонов (1792–1821) — выпускник Благородного Пансиона при Московском университете. По-видимому, обладал довольно поверхностным знанием как латинского языка, так и римской литературы; его перу принадлежит Отрывок из Луциллиевой сатиры против его века (сатира шестая). Луцилий для него в данном случае — просто «сатирик». Он переводит Горация, использует его мотивы в оригинальном творчестве, пишет, в подражание Ювеналу (sat. VIII, 39 слл.) стихотворение К Рубеллию с подзаголовком Сатира Персиева, увлекается творчеством Тибулла. Наряду с Н. Ф. Остолоповым, он практически единственный поэт, которого в первую очередь интересует сатирический жанр. Луцилий для него — не более чем имя (= сатирик). Персий и Ювенал сливаются в одно. Лишь Гораций обладает некоторой индивидуальностью — а за рамками сатиры ближе всех ему Тибулл. Это связано с двумя основными мотивами его творчества, — собственно сатирическим и «похвалой сельской жизни».
Князь Петр Андреевич Вяземский (1792–1878, иезуитский пансион в Санкт-Петербурге, получил и домашнее образование) практически не владел латынью и был человеком русской дворянской (т. е. французской) культуры в полном смысле этого слова. С этими ограничениями он весьма ценит римскую классику. П. А. Вяземский включает в свою избранную Библиотеку Вергилия, Горация и Марциала, дает проницательную оценку Горацию, читает и цитирует Тацита и обращает к поэзии В. П. Петрова слова Квинтилиана о Лукане. Безусловно, даже крупнейшие латинские авторы (кроме, может быть, Горация) расположены ближе к периферии его эстетического сознания, чем к центру. Можно отметить — несмотря на искажающую французскую призму — близкое, «домашнее» обращение с римскими классиками. Павел Александрович Катенин (1792–1853, получил домашнее воспитание) владел не только латинским, но и древнегреческим языком, отличался самостоятельностью мышления и способностью противостоять моде. Литературно-теоретические взгляды делали его архаистом и сторонником национальной самобытности; однако он не стал врагом Рима и его словесности; напротив, сравнение древней и современной литературы приводит его к выводам в пользу первой. В рамках цикла Размышления и разборы он пишет статью О поэзии латинской, где дает высокие и проницательные оценки римским поэтам; мотивы Овидия и Вергилия присутствуют в его творчестве. Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856), получивший прекрасное домашнее образование и учившийся в МУ, сравнительно часто (больше, чем всех других античных авторов, вместе взятых) цитирует Цицерона. В основном его внимание привлекает трактат De legibus. В этом поколении мы видим те же тенденции, что и в переходном: само по себе знакомство с римской литературой сквозь призму французской традиции является весьма распространенным, а противоположная ситуация является результатом значительного образовательного усилия; такое же усилие требуется, чтобы сохранить в собственном представлении целостность римской поэтической традиции. Доминирует поэзия, влияние прозы и знакомство с ней встречаются реже; эпоха Серебряной латыни не пользуется таким расположением, как век Августа. Кроме того, в разделе рассмотрены Николай Федорович Остолопов (1782–1833), князь Петр Борисович Козловский (1783–1840), Федор Николаевич Глинка (1786–1880), князь Николай Борисович Голицын (1794–1866), профессора Московского университета Роман Федорович Тимковский (1785–1820), Иван Иванович Давыдов (1794–1863) и Михаил Григорьевич Павлов (1792–1840).
Чрезвычайно интересно развитие классических занятий в провинции; сведения об этом у нас далеко не так многочисленны, как о том, что происходило в столицах. Создание университетов, внесло мощное оживление в жизнь тех городов, где это произошло. Просветительский очаг в Харькове представляют воспитанник педагогического института Разумник Тимофеевич Гонорский (1790–1818) и швейцарец Иван Филиппович Вернет (1760–1825). Органом просвещения становится издаваемый Гонорским «Украинский вестник». Р. Гонорский в книге Опыты в прозе посвящает обширный очерк Катуллу с пересказом содержания или прозаическими переводами большого числа самых известных его стихотворений, начиная с плача по воробью, пишет о Горации. Он является автором небольшой книжки — Дух Горация и Тибулла (Харьков, 1814), где в главе о Горации (Теория наслаждения по правилам Горация) есть следующие разделы: Ускорение наслаждения, Горациева любовь, Горациева дружба, а в конце помещает стихотворение Поэт в окрестностях Тиволи (Праху Горация). К сожалению, Гонорский умер совсем молодым; он был бы видной фигурой интеллектуальной жизни Харькова — и немало сделал бы для пропаганды римской литературы на левобережье Днепра.
Поколение Пушкина и декабристов. Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) представляет собой центральную фигуру того поколения, которое родилось в конце XVIII–начале XIX в., первым испытало на себе в школе плоды воспитательных реформ Александра I и вполне впитало дух литературной революции, бушевавшей на западе Европы; с другой стороны, оно было последним, для которого решающим было культурное влияние Франции и опыт французской эстетической и политической мысли. Его рецепция отличается универсальным характером. Для тех, кто несколько моложе (напр., для С. П. Шевырева), главной будет уже философская проповедь Германии. В качестве фона рассматриваются взгляды на римскую литературу преподавателей Царскосельского Лицея — Петра Егоровича Георгиевского (1792–1852) и Николая Федоровича Кошанского (1784 или 1785–1831). Тема «Пушкин и античность» — в порядке исключения — относится к числу лучше всего исследованных и рассматривается очень бегло. Представляется не безрезультатным исследование вопроса, как сам образ катулловского дружеского кружка и его литературная полемика влияли на «организационные формы» литературной жизни поэтов-современников Карамзина и Дмитриева, а также младшего поколения — прежде всего «Арзамаса». Относительно подробно исследовано в отечественной науке и влияние античности на Федора Ивановича Тютчева (1803–1873). Самый талантливый соперник Пушкина — Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844), ученик Пажеского корпуса — также рассматривает Рим сквозь призму французской культуры. Он, посетив в окрестностях Неаполя и в самом городе античные достопримечательности, создает лучший, достойнейший Вергилиева надгробия венок, пишет поэму Обеды на ту же тему и на основании того же источника, что и Филимонов. Высока плотность античных реминисценций в творчестве барона Антона Антоновича Дельвига (1798–1831). Это вскрыто в блестящем издании Юрия Никандровича Верховского. Дельвиг подражает знаменитой оде Катулла на смерть воробья, использует мотивы Горация, элегий Тибулла и Проперция. Это довольно ограниченный круг, — он замыкается в поэзии малых жанров I в. до Р. Х., но римская поэзия (не говоря уже о Феокрите) еще демонстрирует свою способность оплодотворять творчество автора малых форм. Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797–1846), еще один соученик Пушкина по Царскосельскому лицею, проявляет в отношении римской литературы досадную односторонность. Он резко нападает на Цицерона, Плиния Младшего, в особенности — на Горация. Прежде всего это можно объяснить фанатическим вольнолюбием: «имперский» характер римского классицизма не говорит ему ничего, что могло бы вызвать положительный отклик.
По образовательному уровню поколение декабристов очень пестро. Мы видим в его рядах и одного из лучших эрудитов эпохи Никиту Михайловича Муравьева (1795–1843), сына Михаила Никитича; отец воспитывал сына на античности и на подлинниках; зная древние и новые языки, читая Тацита — своего вечного спутника — в оригинале, он по складу ума (резкому и педантичному) сильно отличается от отца. На другом полюсе — Кондратий Федорович Рылеев (1795–1826). Здесь мы имеем дело с античной традицией, преломленной уже не через французскую, а через русскую призму; его знакомство с античностью почерпается из переводов и эпиграфов Державина, Карамзина, Милонова и Батюшкова. К числу поклонников Тацита относится и такая выдающаяся фигура, как Николай Иванович Тургенев (1789–1871). Дальнейшее наше изложение создает (как, впрочем, создавало и раньше — но в меньшей степени) несколько искаженную перспективу. Пытаясь найти в личности и творчестве следы влияния Рима и латинской литературы, мы рассматриваем тех людей, где это влияние обнаруживается. Однако среди текстов, которыми мы располагаем, не меньше таких, где это влияние слабо и неуловимо — либо его нет вовсе, либо оно теряется среди множества других. С этой точки зрения Рылеев окажется не на другом полюсе, а значительно ближе к центру: античные реминисценции, пусть из третьих рук, актуальны до некоторой степени для его поэтического языка, а, скажем, у М. Ю. Лермонтова, знавшего латинский язык, эту актуальность уже практически не обнаружить: англо-германское влияние у него уступает только русскому, и даже французское значительно меньше.
К числу наиболее образованных декабристов относится Александр Федорович Бригген (1792–1859), поклонник и переводчик Цезаря. Сохранилась его большая статья, которая должна была стать предисловием к переводу. Прежде всего его внимания удостаиваются историки — Саллюстий, Патеркул; среди них оказывается и Лукан. Михаил Сергеевич Лунин (1787–1845), прекрасно образованный офицер-полиглот, был поклонником Цицерона и имел в библиотеке полное собрание сочинений оратора; с восторгом он относится и к Тациту. Кроме того, рассматриваются декабристы Александр Николаевич Муравьев (1792–1863) и Александр Осипович Корнилович (1800–1834). Осип-Юлиан Иванович Сенковский (1800–1858) на голову превосходил подавляющее большинство современников эрудицией; но в его журнале «Библиотека для чтения» римской литературе отводится очень мало места. Он обнаруживает несомненную проницательность, отвечая на обвинения Низара, защищает Сенеку Младшего и Федра; правда, в «Библиотеке для чтения» мы можем найти резкие выпады против Цицерона.
Из этого поколения выходят первые борцы с римской традицией как таковой. Наиболее крупные фигуры — братья Николай и Ксенофонт Полевые, издатели одного из самых влиятельных журналов второй половины 20-х — первой половины 30-х годов, любимого прежде всего молодым поколением. Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) — одна из ключевых фигур русского литературного процесса первой половины XIX в. Основанный им «Московский Телеграф» (1825–1834) был наиболее авторитетным журналом эпохи и отличался резким тоном полемики. Римская литература не вызывала у Николая Полевого никакой симпатии: он ее оценивает как «бедную», сравнивает век Августа с веком Людовика и считает основанное на них латино-французское образование поддельным, носящим зародыш смерти и долженствующим умереть от недостатка сил; особенно прочна его неприязнь к Горацию. Это начало систематической войны прогрессистов против римского лирика. К историкам его отношение совершенно иное.
В хронологическом отношении жизнь поколения Жуковского-Батюшкова и Пушкина-декабристов приходится на один период; основанием датировки здесь служит не столько дата рождения, сколько жизненное дело. Но культурная разница ощутима. Для тех, кто выходить на Сенатскую площадь не мыслил и предпочитал культурное творчество политическому, актуальна прежде всего римская поэзия; их оппоненты, напротив, интересуются поэзией очень мало и, напротив, предпочитают историческую прозу (даже интерес к Цицерону является спорадическим и скорее является отражением именно исторического любопытства — как дополнительного источника для событий, описанных Саллюстием). Саллюстий же и Цезарь переживают последний расцвет своего влияния (Саллюстий — в первый раз, Цезарь — вторично после эпохи Петра). Автор Катилины и Югурты рассматривается как учебник заговора, автор Записок — как военный учебник. Занятно, что одним из наиболее интересных поэтов для этого круга, вообще поэзией не интересующегося, является Лукан — и он тоже светится, по-видимому, отраженным светом, являясь косвенным свидетельством интереса к Цезарю у тех, кто был способен интересоваться глубоко. Влияние среди историков сохраняет Тацит и несколько утрачивает Тит Ливий. Очень важно то, что фигура, объединяющая «сказителей слов» и «делателей дел» в этом поколении — В. К. Кюхельбекер — в первый раз на русской почве громко, задиристо и решительно высказывается против Горация. Впоследствии к этому голосу прибавится едкая ирония братьев Полевых, чей удар прежде всего направлен по Горацию как эстетическому авторитету.
После универсализма екатерининских поколений (М. Н. Муравьев, И. М. Муравьев-Апостол, А. П. Ермолов) едва ли не в последний раз римский универсализм воплощается в Пушкине, который мог находить что-то важное и у Тацита, и у Петрония, и у Вергилия, и у Катулла. Но и пушкинский универсализм касается уже жанров, а не авторов, — вряд ли он, в отличие от вышеназванных, был знаком, напр., с эпосом эпохи от Нерона до Антонинов. Отметив по-своему замечательную личность М. А. Дмитриева, потом он станет навсегда недоступным и не вернется даже и в творчестве великих — А. А. Фета и А. А. Блока, которые подойдут к нему ближе всего. Отметим, что Цицерон живет активной жизнью в области эстетики. Там же находит себе законное убежище и Квинтилиан. Многочисленны ссылки на его труды в эстетических трактатах и критических статьях первой трети XIX в.
Поколение славянофилов и западников. К нему мы отнесем тех, чья деятельность (или по крайней мере ее расцвет) пришлась на 40-е годы XIX в. Старшие из этого поколения родились в самом конце XVIII столетия; младшие — как Константин Сергеевич Аксаков — ближе к концу десятых годов. В этом поколении также было бы уместно начать с крупнейшего его художественного представителя — Николая Васильевича Гоголя (1809–1852), ученика Нежинской Гимназии высших наук. На фоне пушкинского универсализма особенно поражает незначительное влияние, оказанное на Гоголя римской литературой. Молодого Гоголя, по свидетельству Н. С. Лескова, «особенно давило мнение Тацита, что „насмешки оставляют в уме смертельные уколы и ничего не исправляют“»; впоследствии он ссылается на Тацита в одной из статей сборника Арабески (в работах Гоголя, кроме этой, практически нет упоминаний римских авторов). Несомненна связь Старосветских помещиков с одним из сюжетов Метаморфоз (история о Филимоне и Бавкиде, чьи имена Гоголь называет). По-видимому, за столь незначительным влиянием стоит не сознательное отвержение, а отсутствие знаний и интереса.
Другой гениальный представитель поколения, не относившийся ни к одному из противоборствующих лагерей, — Иван Александрович Гончаров (1812–1891) дает проницательное описание падения интереса к латинским классикам: «Те немногие, кто хотел заниматься, конечно, тогда уж старались ознакомиться с тем, чего не знали, а другие прошли мимо, не заботясь о многом. Иное, когда юноши повзрослели — и вкусили, кто Вальтер-Скотта, кто Жорж-Занд и т. п., потом и в горло не пошло. После же Пушкина отослали к черту всякого Гезиода и Горация». Профессор Московского университета Степан Петрович Шевырев (1806–1864) ради подробного знакомства с Гомером сильно сокращает для студентов вторую часть курса об античной поэзии. Но, читая лекции о поэзии Рима, он дает высокую оценку творчеству Лукреция, ценит Энеиду, с величайшим почтением цитирует Квинтилиана. Кроме того, из кружка славянофилов рассматриваются Михаил Петрович Погодин (1800–1875) и Иван Васильевич Киреевский (1806–1856). Михаил Александрович Дмитриев (1796–1866), племянник знаменитого поэта, переводил Горация (Науку поэзии и Сатиры), гордясь точностью своей версии. Как мемуарист он претендует на то, чтоб быть русским Авлом Геллием. Универсальным подходом из западников отличается Александр Иванович Герцен (1812–1870). Он интересовался творчеством Лукреция, неприязненно относился к Цицерону, любил Горация и неоднократно цитировал его. Будучи рецензентом «Библиотеки для чтения», он высказывает мысль, что Сенека в своем творчестве выразил новый дух достоинства человека, неизвестный древнему миру. Он знаком с Тацитом и Плинием Старшим. В Отцах Церкви — прежде всего в св. Августине — он видит родственные души, оценивая радикализм разрыва с прошлым. Герцен знаком с римской литературой неплохо (решительно предпочитая прозу поэзии), но его кругозор ограничен поиском «родственных душ»: потому ему сравнительно мало говорит эпоха Августа и много — позднереспубликанская, нероновская, закат Империи. Общее увлечение западников — Тацит. К числу его преданных поклонников относятся Александр Васильевич Никитенко (1804–1877) и Тимофей Николаевич Грановский (1813–1855). Петр Николаевич Кудрявцев (1816–1858) в посвященной Т. Н. Грановскому статье дает такую характеристику историку: «В творениях Тацита история впервые поднялась на степень высшего нравственного трибунала над отжившими ее деятелями».
А вот отношение к Горацию резко меняется. У него есть почитатели на самых верхних этажах культуры: Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892) среди наиболее увлекавших его в университете лекций упоминает разъяснения Дмитрием Львовичем Крюковым красот Горация. Но совершенно иной позиции придерживается Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848). Имеет смысл не упускать из виду то рельефно вскрытое Юлием Исаевичем Айхенвальдом обстоятельство, что Белинский чрезвычайно беден на самостоятельные мысли, особенно по античности; его высказывания, таким образом, следует оценивать как симптомы отношения к различным предметам сторонников его партии. Это определяет и перспективное направление исследований в отношении его критической деятельности — не что иное, как Quellenforschung, что осложняется тем, что учился он не из книг, а преимущественно из разговоров. Он не скупится на резкие характеристики в адрес римлян и проявляет особое желание принести Вергилия в жертву на алтаре Гомера. Не иначе высказывается он о другой вершине классицизма эпохи Августа: «Гораций в прекрасных стихах воспевал эгоизм, малодушие, низость чувств». Окружение Белинского его рукой наносит удар прежде всего по поэзии эпохи Августа. Мотивы его вполне понятны; но, для того чтобы они могли действовать, должно уйти в небытие само понятие об эстетическом совершенстве. То, что провозгласил Кюхельбекер, здесь превращается в основание новой эстетической системы.
Важной фигурой является Максим Иванович Невзоров (1762 или 1763–1827, ученик Рязанской духовной семинарии и педагогической семинарии при Московском университете); ему посвящен последний раздел главы. На страницах журнала «Друг юношества» он последовательно развивает концепцию вражды к римской литературе и к Риму вообще, низко оценивая творчество писателей-язычников с христианской точки зрения, предпочитает Цицерона Демосфену, но обоих не считает образцами красноречия. Цезарь в его глазах — злодей-честолюбец и потому несчастен. Такая концепция в культурном контексте начала XIX в. уникальна. Это единственное связующее звено между церковной интеллигенцией XVII в., враждебной преподаванию латинского языка, и семинаристами середины XIX столетия, которые — уже на основании самоновейших эстетических концепций — пытались сбросить Горация с парохода современности. Максим Иванович Невзоров единственный делает эту линию традицией.
Основные изменения первой половины XIX в. сравнительно с «экстенсивным» XVIII столетием заключаются в следующем. Если рубеж веков продолжает тенденции предшествующей эпохи (готовя в реформе образовательных институтов Империи почву для еще более активной экстенсификации), то в 20–30-х годах — в связи с влияниями зарубежной эстетики, которые очевидны, — падает престиж Вергилия. Что касается Горация, его очередь придет позднее — в 40–50-х годах, когда прогрессивная критика будет предпринимать попытки подорвать его репутацию. Напротив, можно отметить некоторое возрастание интереса к Катуллу. Не теряет своих позиций Овидий, который остается важным источником поэтического вдохновения — и ранней поэзией, и Метаморфозами, и творчеством последнего периода. Вообще знакомство с римской литературой становится более фрагментарным. М. А. Дмитриев и А. С. Пушкин, родившиеся в конце XVIII столетия, — едва ли не единственные, кого словесность Рима интересует по крайней мере во всем разнообразии своих жанров. «Люди дела» занимаются преимущественно историками, иногда с совершенно практическими целями — изучить науку войны и постичь теорию заговора. «Люди слова» обращаются к поэтам, уже не черпая вдохновения у историков.
Вергилий и Гораций к середине века утрачивают кредит; их судьбу разделяет идея эстетического совершенства. Цезарь и Саллюстий переживают расцвет славы и влияния между наполеоновской эпопеей и бунтом на Сенатской площади. Цицерон и Квинтилиан оплодотворяют эстетическую мысль старой школы; взятый более широко Цицерон изредка еще находит почитателей. Уже последним поколениям XVIII в. мало что говорят имена поэтов эпохи Империи: их отвергают не читая. Тацит переживает пик своего влияния в кругах западников; напротив, славянофилы (за исключением С. П. Шевырева) испытывают настороженность к Риму вообще. В начале столетия чувствительно влияние Катулла. Об остальных в лучшем случае можно сказать, что их иногда вспоминают.
Глава IV. Рецепция римской литературы во второй половине XIX и в начале XX века. Восстановление утраченных позиций
Середина XIX столетия (как некоторое единство можно рассматривать конец сороковых — шестидесятые годы) характеризуется, с одной стороны, достаточно сложными явлениями в области государственной идеологии и тесно связанной с ней образовательной политики, с другой — общим кризисом дворянской культуры, прорывом на культурную авансцену разночинцев с их совершенно иными установками и вкусами. Оба эти пункта заслуживают подробного рассмотрения. Если — с подачи Ливена, Уварова и их окружения — залогом успешности общеобразовательной модели для элиты являлась серьезная подготовка по небольшому количеству предметов с упором на древние языки, то после революции 1848 года эти последние в глазах Императора, напротив, стали служить признаком неблагонадежности. Позднее М. Н. Катков будет считать именно это преобразование причиной размножения нигилистов и сделает этот тезис основой для образовательных реформ эпохи Александра ІІ.
Понятие кризиса дворянской культуры тоже нуждается в уточнении. С одной стороны, это не означает — по крайней мере в литературной области, где аристократия господствовала, — замены дворян кем-либо иным: Тургенев, Толстой, Достоевский, — все они — выходцы из благородного сословия, причем Толстой — представитель семейства с большими традициями пребывания у власти. С другой стороны, «категориальный перелом» рубежа XVIII–XIX веков вписался в дворянскую культуру, не поколебав ее господства. Водораздел проходит по другому признаку: и классическая, и романтическая эпохи предполагают первенство эстетического элемента, в то время как разночинцы приносят с собой утилитаризм (который может быть тоже окрашен очень по-разному). Можно вспомнить, что П. А. Вяземский, в знаменитом предисловии к Бахчисарайскому фонтану нападая на классицизм, но не желая отказываться от античного наследия, воспринимает Горация в романтическом духе — для него важна первородная творческая ценность, которая заведомо воспринимается как оригинальная, в то время как отсутствие оригинальности как таковое исключает творчество. Утилитаризм начинает доминировать не в самом искусстве слова, а в воззрениях на искусство. Шестидесятники одерживают победу в области литературной критики. Их точка зрения становится наиболее влиятельной.
От шестидесятников до начала XX в. С точки зрения общественной мысли и общественных настроений разница между различными десятилетиями второй половины XIX в. существенна. Но для нашей темы это не так: мы видим выпады шестидесятников против римского наследия (главная мишень — Гораций, Вергилий на втором месте, предметы симпатии — Ювенал и Тацит) и падение к нему интереса в публике; волна эстетической реакции против общественного утилитаризма поднимает римскую словесность на щит — что происходит с конца столетия и обрывается катастрофой 1917 года. Этим обстоятельством обусловлено разделение главы на две части.
Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883), представитель младшего поколения западников, прежде всего интересуется философией Гегеля и новейшей европейской литературой; но и античная словесность не остается без его внимания. Вопрос о реминисценциях римской литературы подробно рассмотрен М. фон Альбрехтом. Тургенев упоминает Катулла в романе Дым. 68-ю элегию можно рассматривать как один из подтекстов романа Накануне, а Энеиду — Вешних вод. Не чужды Тургеневу Цицерон и Гораций. Для писателя третьей четверти XIX в. это влияние можно признать довольно значительным. Лидером поколения шестидесятников нужно признать Николая Гавриловича Чернышевского (1828–1889). В студенческие годы его внимание привлекли долитературные тексты; он преувеличивает подражательность римской комедии. Чернышевский определял Энеиду как произведение «мелкое» и «пустое», у Вергилия, как и у Горация, «почти нигде нет даже искренности и увлечения». Его раздражает «умеренный, чинный, добропорядочный» пафос Горация, у которого нет «ни разгула, ни страсти»; напротив, обличительный пафос Ювенала вызывает его симпатию. Второй по значимости представитель шестидесятников — Николай Александрович Добролюбов (1836–1861). Он с большой симпатией относится к Катилине, не жалеет самых энергичных слов для Цицерона: «Сколько ничтожества, самохвальства, самых легких страстишек скрывается под приглаженными и округленными фразами знаменитого оратора», который для него — «гениальный софист и краснобай без всякого убеждения в душе». Написавший в студенческие годы работу об одном из переводов Вергилия, он ставит его ниже Гомера и считает Энеиду «превосходным произведением великого таланта», но не «выражением народного эпоса». В Горации он усматривает «трусость и безразличность, или, лучше, продажность убеждений, и ласкательство и самолюбие и все, что угодно». Его позицию можно характеризовать как совершенно идентичную позиции Чернышевского. Дмитрий Иванович Писарев (1840–1868) — третья крупнейшая фигура поколения шестидесятников. Римская литература у него на периферии сознания, однако же обязательный выпад против Горация найти можно. Тацит — единственный писатель, которого он считал предпочтительным читать в подлиннике (из греческих классиков он эту честь оказывает Гомеру). Статья Писарева Наша университетская наука — один из самых сильных ударов по идее классического образования и одна из первых попыток сформулировать общественную позицию по вопросам образования, противостоящую правительственным взглядам. Известный поэт и революционер Михаил Илларионович (Ларионович) Михайлов (1829–1865) перевел Катулла почти целиком и собирался издавать. К поколению шестидесятников относится как по рождению и воспитанию, так и по многим (не всем!) жизненным установкам крупнейший антиковед России второй половины XIX в. Василий Иванович Модестов (1839–1907). В работе рассматриваются его суждения о римских авторах.
Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892) — самый плодовитый в императорскую эпоху переводчик латинской поэзии; для наших целей, пожалуй, интереснее рассмотреть, каких авторов он не перевел, чем наоборот; прежде всего это поздние поэты эпохи Империи, и, по-видимому, Фет разделяет (хотя и не высказывает) пренебрежительное отношение своей эпохи к их творчеству. Интерес к римской поэзии у Фета если и не универсален (мы уже описывали ограничения), то во всяком случае достаточно широк. Но — наряду с этим — вряд ли можно говорить о серьезных интересах в области латинской прозы. Таким образом, отношение Фета к Риму — весьма серьезное, но одностороннее. Аполлон Николаевич Майков (1821–1897) делает Сенеку (наряду с Луканом) одним из основных персонажей лирической драмы Три смерти и выводит Ювенала в качестве эпизодического персонажа, «почти не верящего в Рим», в трагедии Два мира. Лев Александрович Мей (1822–1862) пишет по мотивам Метаморфоз стихотворение Дафнэ в цикле Из античного мира (1858 г.). Он, по-видимому, знаком со Светонием. Новому поколению славянофилов свойственно такое же отсутствие вкуса к римской литературе, что и поколению Хомякова и Аксаковых. Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885), сторонник — как и вся славянофильская школа — идеи творческой самобытности народа, строго судя латинские эпос и драму за подражательность, для наследия Горация и еще некоторых авторов делает исключение. Он признает, что «Тацит стоит наравне с Фукидидом не как подражатель, а как достойный соперник». Иногда к цитатам из Горация прибегает и Константин Петрович Победоносцев (1827–1907), выпускник привилегированного Училища Правоведения, который — хотя по взглядам его никак нельзя причислить к славянофилам — имел с ними ряд общих симпатий и антипатий. Профессор-юрист Альфонс Эрнестович Вормс (1868–1939) вспоминает о своей беседе с Львом Николаевичем Толстым (1828–1910) о Георгиках: его удивила высокая оценка, данная Толстым дидактической поэме.
Резкую позицию по отношению к римской литературе занимает в юности Николай Саввич Тихонравов (1832–1893) — крупный филолог-русист, издатель Гоголя, в будущем — ректор Московского университета. Алексей Николаевич Апухтин (1840–1893, выпускник Училища правоведения) перелагает рифмованным анапестом овидиевский сюжет о Ниобе (Ниобея. Заимствовано из «Метаморфоз» Овидия; 1867 г.). Один из самых образованных русских филологов — полиглот Федор Евгеньевич Корш (1843–1915), ординарный академик ИАН, заслуженный ординарный профессор Московского университета, автор трудов по классической филологии, славянским и восточным языкам и литературам. Это по всем меркам великий ученый — безо всяких скидок на «русскую специфику». Сохранился очень интересный гектографированный курс лекций о Катулле; кроме того, он написал небольшую книжку Римская элегия и романтизм, где, в частности, сравнивал элегиков с персидскими поэтами. Высока его оценка Катулла: «Он рассказал эту вечную сказку так полно, так жизненно, так по-человечески, что и люди XIX в., следя за его радостями и печалями, невольно забывают разницу культуры и времени…». Дарование Тибулла, в отличие от Проперция, по его мнению, «было не из первостепенных». Об Овидии он отзывается не без пренебрежения: «Овидий, которого ingenium в самом деле поразителен, но это именно ingenium в том смысле, как его понимали римляне, это — своего рода изобретательность». Он помогал А. А. Фету в переводе Ювенала. В оценках он — прежде всего филолог и сын своего времени; тем не менее заслуга Корша-филолога и Корша-переводчика в том, что римская литература была в поле зрения русского образованного общества в достаточно сложный для нее период, велика.
Латинская образованность элиты русской юриспруденции — вопрос, еще ждущий своего разрешения; тем не менее можно сказать, что в Российской Империи были высокопоставленные юристы, хорошо знающие римскую литературу. К их числу относится Алексей Федорович Кони (1844–1927). Он пишет о неприменимости античных правил судебного красноречия, почерпнутых из Квинтилиана и Цицерона, к современной ситуации; это объясняется, на его взгляд, и существенно другим характером античного общества, и разницей этнографического типа. Он цитирует Сенеку Младшего в статье о Н. И. Пирогове, иллюстрируя его характер. По-видимому, А. Ф. Кони не уделял большого внимания латинской поэзии. Не будучи универсальным знатоком и ценителем, не будучи и чужд утилитаризму (поэтические цитаты, а отчасти и прозаические, играют у него декоративную роль), он все же представляет собой фигуру крупного эрудита.
От В. С. Соловьева до акмеистов. Среди лидеров общественного мнения 60-х годов преобладают семинаристы. Но утилитаризм их проповеди довольно быстро вызывает реакцию: те, кто родился в 50-х — 60-х гг. и учился в классических гимназиях по александровским уставам, не столь легко смиряются с диктатом общественности и возвращаются к утраченным эстетическим ценностям. В этом поколении — неожиданно много поклонников Вергилия. Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) вместе с Фетом трудится над Энеидой и переводит сыгравшую столь большую роль в христианизации Вергилия 4-ю эклогу. Мог он при случае процитировать в критической статье и Горация. Павел Николаевич Милюков (1859–1943) вспоминает о своих гимназических годах: он в то время «бредил Вергилием» и прочел целиком всю Энеиду. Пристрастие к нашему поэту разделяет и его современник — гимназист Викентий Викентьевич Смидович (1867–1945), в будущем В. Вересаев, переводчик Гомера, Гесиода и греческих лириков. Иннокентий Федорович Анненский (1855–1909) был проводником прежде всего греческого влияния. Однако же образование сделал и несколько превосходных переводов Горация, а в статье А. Н. Майков и педагогическое значение его поэзии (1898) дал яркую и во многом спорную оценку творчества римского поэта. Фаддей Францевич Зелинский (1859–1944) — один из крупнейших русских антиковедов, исследователь литературы, мифологии, религии и идей античного мира, искусный и авторитетный защитник классической модели образования. Из латинской литературы его внимание привлекал прежде всего Цицерон. Он подготовил перевод Героид Овидия, которые назвал — несколько модернизируя — балладами-посланиями, и в предисловии высказал проницательную оценку творчества римского поэта: «Солнце все еще светило и заставляло его петь; ко всему другому он был глух и слеп».
Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) проявлял больше интереса к религиозно-философским, нежели к эстетическим вопросам; потому — при весьма добротном знании античности и римской литературы в частности — имена первого ряда, прежде всего эпохи Августа, повлияли на него не слишком. В романе Юлиан Отступник он выбирает Проперция для иллюстрации вкуса своих декадентствующих героев, гутирующих звуковой рисунок поэзии. Одному из своих героев в качестве диагноза последних язычников упадочного века он вкладывает в уста цитату из Сенеки Младшего, использует образ центуриона по прозвищу Cedo alteram, позаимствованный из Анналов Тацита. Вообще же роман Смерть богов (Юлиан Отступник) основан на материале Аммиана Марцеллина, и Мережковский выводит его на последних страницах в качестве персонажа, играющего роль авторского рупора. Д. С. Мережковский включает очерк о Плинии в сборник Вечные спутники: «Особенный род литературы, близкий нашему современному вкусу, исключающий все условное и внешнее, немного поверхностный, но зато грациозный, очаровательно-разнообразный. Читается эта маленькая драгоценная книга, как интересный роман, полный живых характеристик, движения и страстей».
Рассмотрение поколения символистов в собственном смысле слова было бы уместно начать с крупнейшего среди них латиниста — Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924). Латинское влияние в творчестве Брюсова совмещалось с французским, вкус к римской архаике (одним из первооткрывателем которой для русской публики он был) — со вкусом к французскому модернизму и римским авторам эпохи поздней Империи. Ему принадлежит весьма экстравагантный перевод крупнейшего римского эпоса, и В. Я. Брюсов впоследствии признавался М. А. Волошину: «Век Августа — это архаические времена. Латинский язык тогда еще не был разработан. Это был наш державинский торжественный язык». Не владеющий древними языками русский читатель впервые смог познакомиться в переводе В. Я. Брюсова с представительной подборкой Авзония. Симмах с большой симпатией выведен в романе Алтарь Победы (не исключено, что Брюсов был единственным читателем одного из последних защитников язычества). Безусловно, брюсовский подход не отличался универсализмом; если знакомство с поэзией не подлежит сомнению, и предпочтение, оказанное раннему и позднему этапу, связано с личными пристрастиями, а не с ограниченностью кругозора, то, по-видимому, Цицерон, историки, вообще проза за редкими исключениями — не слишком привлекали его внимание. Поэтическое влияние Брюсова было громадно; в том, что римская литература перестала быть периферийным элементом общественного сознания, его заслуга велика.
Александр Александрович Блок (1880–1921) — далеко не самый образованный в своем поколении, но, бесспорно, крупнейший его поэт. Римская и — шире — античная словесность связывалась для него с «изящным» и «красивым», почему в его глазах заслуживали признательности переводы классиков, — под предлогом устарелости отделаться от них проще, чем от нового. Он жалуется — совершенно в духе Шевырева и Лонгинова — на недостаток этих переводов и отмечает, что прежняя пора (т. е. эпоха нигилизма) была серьезнее и одушевленнее, нежели его собственная. Он переводит Горация, иногда пользуется его мотивами, усматривает декадентство в Буколиках. В эссе о Катилине он называет философию Цицерона «мертвой водой» и сожалеет, что над его сочинениями теряли время школьники всех стран, в том числе и русские. Очень высоко ценя сульмонского поэта («Овидий принадлежит к тому несомненному и „святому“ (Пушкин), что должно светить нам „зарей во всю ночь“»), в отзыве на сборник стихов своего троюродного брата Сергея Михайловича Соловьева (1885–1942) Цветы и ладан он насмешливо отзывается о стихотворении Пирам и Фисба: «Вся вторая половина… заставляет помирать со смеха», и стихи, которые ему кажутся такими смешными, — довольно точное воспроизведение смелого овидиевского образа (met. IV, 121 слл.). Кругозор Блока в области римской литературы ограничен — он обладает превратными и уже к тому времени выходящими из моды представлениями о философии Цицерона, мало интересуется историками (кроме важного для одной из любимых тем Саллюстия). Но его установки по отношению к Горацию воскрешают традиции первой половины столетия и показывают связь интереса к достижениям римской литературы эпохи Августа и собственным чувством прекрасного. Рассматриваются в работе проблемы римской рецепции в творчестве Вячеслава Ивановича Иванова (1866–1949) и Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936).
Поколение акмеистов в нормальных обстоятельствах должно было стать ключевым в повороте от утилитарных ценностей к эстетическим. Лидер акмеистов Николай Степанович Гумилев (1886–1921) известен как певец романтической экзотики; экзотичное в римской литературе также привлекает его внимание. Характерна оценка знаменитого друга и жертвы Нерона: «Среди… попугаев человеческого зверинца арбитр изящества Петроний занимает едва не первое место… Не ищите в его словах ни дивных откровений, ни лирического порыва. Он просто умен и холоден, и рассматривает жизнь, держа ее на весу, как не слишком драгоценный кубок». В работе рассматриваются также проблемы римской рецепции в творчестве Анны Андреевны Горенко (Ахматовой, 1889–1966) и Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938), немногочисленные римские реминисценции Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), цитаты в трактате О монархии и республике Ивана Александровича Ильина (1883–1954).
Во второй половине XIX века полного развития достигли тенденции, которыми отмечены конец 30-х — 40-е гг. первой половины столетия. Римская культура оттесняется на периферию общественного сознания; этому не препятствуют ни уже, казалось бы, созревшие плоды образовательной реформы 1828 года, ни попытки власти при Александре II создать полноправную русскую гимназию на гуманистической основе. Эффект последних мероприятий скажется позже. Падение роли римской литературы неразрывно связано с закатом эстетических ценностей как таковых: вражда к Горацию немыслима без вражды к «чистому искусству». И, если лидеры общественного мнения шестидесятых годов поднимают на щит Ювенала (или — для разнообразия — Тацита), то это вовсе не свидетельствует об их интересе к данным фигурам: оба мыслятся как таран для расшатывания существующего порядка.
Наряду с этим регрессом возрастает исследовательская активность; постепенно, не минуя этап научных компиляций, формируются самостоятельные русские исследователи-антиковеды, к концу века и к началу XX столетия выходящие на мировой уровень. Благодаря стараниям А. А. Фета читатель получает возможность познакомиться практически со всей латинской поэзией в русских переводах; труды сначала В. И. Модестова, а потом В. Я. Брюсова делают — по крайней мере потенциально — достоянием широкой публики латинскую поэтическую архаику и ряд поздних поэтов.
Можно с полной уверенностью утверждать: идеи М. Н. Каткова, основополагающие для гимназической реформы 1871 года, в конце концов одерживают победу. Прежде всего мы видим ее проявление в том, что культурная элита формируется преимущественно из выпускников гимназий; тип «семинариста» (как в его консервативном варианте, свойственном XVIII и первой половине XIX в., так и в прогрессивном, создавшем тип «шестидесятника») уходит на второй план и не пользуется авторитетом. Является ли большая роль античного элемента в «проторенессансе» начала XX в. следствием образовательных идей, заложенных за четверть в века до того в фундамент образовательной реформы, или, напротив, сами по себе эти идеи смогли одержать победу только в силу своего культурно-консервативного характера? Полагаем, что это взаимосвязанный процесс; так или иначе, он готовил почву для нового культурного рывка, масштабы которого могли многократно возрасти в силу того, что Россия готовилась к невиданному экстенсивному росту образования.
Кризис интеллигентской антиэстетической установки в начале XX столетия создает основу для нового культурного взлета, и — это очень важно! — часто прекрасные знатоки античных древностей оказываются ведущими фигурами в художественном возрождении эпохи. Но предпосылки для нового интенсивного усвоения гуманистической культуры не осуществляются из-за политического срыва, надолго погрузившего страну в варварство и поставившего под вопрос само существование гуманистической культуры в России.
Марк Александрович Ландау (1886–1957, псевдоним-анаграмма — Марк Алданов) относился к числу наиболее образованных людей своей эпохи, сочетая обширные лингвистические, исторические и естественнонаучные познания. Ему посвящен последний раздел главы. В связи с особенностями его литературных жанров — исторический роман и очерк — находится и форма выражения мыслей об античных персонажах. Даже учитывая, что Пьер Ламор — авторский рупор в цикле романов Мыслитель, мы вынуждены считаться с этим обстоятельством и не воспринимать произнесенные им суждения как прямое выражение авторской позиции. Ламор дает не слишком лестную характеристику автору Катилины: «Отъявленный негодяй Саллюстий давал вам уроки римской морали», и цитирует Nat. hist. VIII, 157 в романе Заговор, намекая на подготовку к убийству Павла I. Светонию достается не меньше, чем Саллюстию: «порнограф Светоний, не уступающий во многих отношениях гражданину де Саду»; «древний лгун». Зато восторженна его оценка прозы Сенеки Младшего в очерке о генерале Пишегрю. Можно с уверенностью утверждать, что в лице М. Алданова латинская литература обрела весьма тонкого ценителя.
Заключение
Резюмируя факты и наблюдения, можно сделать следующие выводы о характере рецепции римской литературы в России конца XVII ― начала XX веков:
I. В отличие от стран Западной и Центральной Европы этап интенсивного освоения античного культурного наследия хронологически совпал с таким же этапом в освоении достижений философии, техники и искусства Западной Европы. Поскольку последние достижения (в соответствие с идеологией прогресса, господствующей на Западе в эпоху интенсивного обращения к его культуре) рассматривались (иногда — властями, весьма часто — обществом в его массе) как более «передовые» и престижные, вопрос о «возвращении к истокам» в воспитании общества и о невозможности усвоить плоды, игнорируя корни, был поставлен относительно поздно. Это создавало постоянный социальный фон, неблагоприятный для рецепции античной культуры. Иногда влияние этого фона слабело, иногда было необычайно сильным, но не исчезало практически никогда.
II. В рамках самого античного наследия были дополнительные факторы, определяющие относительную престижность греческого и римского наследия. Православная традиция изначально подозрительно относилась к латыни и латинскому культурному ареалу (впоследствии это недоверие, пройдя через немецкую философскую школу, возродится в славянофилах); падение престижа французской культуры на рубеже XVIII–XIX веков и выдвижение на первый план литератур германской и английской косвенно ударило и по Риму, который воспринимался как культура вторичная, лишенная оригинальности, что автоматически влекло смертный приговор в силу кодекса новой, романтической эстетики. В пользу римской литературы действовала только относительная легкость и пригодность для школьных нужд латинского языка, что способствовало — в не такой уж значительной степени, впрочем, — знакомству с римским культурным наследием. Факторы, мешающие восприятию римской культуры, действовали в конце XVII в. и в течение всего XIX столетия; XVIII век можно считать поэтому «золотым веком» римской рецепции. Таким же мог стать и XX век с его пересмотром постклассической — утилитаристской — эстетики.
III. Учитывая более позднее сравнительно с Западной и Центральной Европой становление школьной системы, хоть сколько-нибудь возвышающейся над элементарным уровнем, и влияние сдерживающих факторов, указанных в пп. 1 и 2, в том числе и на школьный уклад, распространение глубоких познаний в античной и в частности в римской литературе было не настолько значительным, насколько можно было бы ожидать — при прочих равных условиях — от страны с значительным населением и мощными культурными традициями, которые — с рядом существенных оговорок — нужно характеризовать как европейские.
IV. Из основных ветвей сложившейся в Российской Империи образовательной системы наиболее благоприятным для знакомства с латинскими классиками было духовное образование, знакомившее с древними языками; этой возможностью обращения к классическим текстам пользовались лишь наиболее образованные из клириков; корпоративно-дворянское направление (пансионы и кадетские корпуса) классической подготовки не давали, и античность воспринималась в основном через призму французских и русских переводов (что не мешало живому интересу к ней). Но влияние римской литературы растет прежде всего вместе с влиянием культуры дворянской. Общеобразовательная система (кроме элементарной школы) включала классический элемент.
V. Гуманистический элемент в русской культуре не имел достаточно глубоких корней, не всегда пользовался достаточной поддержкой со стороны властей и практически никогда не обладал значительной общественной поддержкой; в связи с этим изучение и творческая переработка античного вообще и римского в частности культурного наследия требовала более значительного индивидуального усилия и самостоятельного выбора со стороны своих приверженцев; потому осуществившие такой выбор, как правило, относятся к русской культурно-образовательной элите уже в силу способности сделать такой выбор и следовать ему. Среди таких любителей можно выделить несколько типов: с одной стороны, это просвещенный клирик, знаток древних языков (Феофан Прокопович, Стефан Яворский, Моисей Гумилевский); с другой — дворянин, получивший гимназическое образование (М. Н. Муравьев), домашнее (А. Д. Кантемир) либо — в сфере латинского языка — самоучка (А. П. Ермолов). Исключая Ломоносова, другие сословия не дают видных фигур в данной области. Более распространен тип дворянина, ценящего античную культуру, но знакомящегося с ней через призму переложений (И. И. Шувалов, М. М. Херасков). Для эпохи 60-х годов характерен семинарист с высшим педагогическим или филологическим образованием, отрекающийся от римской литературы по морально-утилитарным соображениям; для второй половины XIX в. и начала XX в. — гимназист со школьным классическим образованием, продолжающий его в одном из университетов Империи или за рубежом.
VI. Интенсификация усвоения античного вообще и римского в частности культурного наследия обладает собственной инерцией и может осуществляться независимо от позиции властей и общества: если екатерининская эпоха (более хлопотавшая о начальной школе, нежели о высших и средних учебных заведениях, и увлекавшаяся новомодными педагогическими концепциями, враждебными традиционной европейской школе) и не помогала распространению глубоких познаний античной культуры, ограничиваясь переводами античных классиков, то инерции, заданной еще елизаветинской эпохой, было достаточно для процессов интенсификации, которые мы наблюдаем в начале XIX века (при отсутствии достаточных образовательных предпосылок).
VII. Знакомство с римской литературой (разной степени и глубины) осуществляется во всем ее объеме: для того чтобы хотя бы понаслышке и на уровне общей характеристики знать даже и не основных римских авторов, было вполне достаточно читать основные русские журналы. Библиотеки образованных людей, интересующихся античностью специально (А. П. Ермолов, М. Н. Муравьев), демонстрируют широту кругозора и добротность эрудиции. Однако знакомство с авторами тем шире распространено, чем выше их престиж внутри римской табели о рангах (с некоторым отставанием Вергилия, который уступает не только Горацию, но и Овидию). Авторов второго и третьего ряда (напр., поэта Кальпурния, историка Веллея Патеркула) читают неизмеримо меньше, чем Тацита или Лукана. Но даже и такие, казалось бы, далекие от возможной области общественных интересов авторы, как Сенека Старший, находят своих внимательных читателей (в данном случае — в лице А. Н. Радищева).
VIII. Круг авторов, релевантных для каждой конкретной эпохи, меняется; на этих изменениях сказываются как европейские интеллектуальные моды, так и внутренние потребности русских читателей (в качестве примера последнего приведем Цезаря, чьи Записки получили невиданную — и никогда больше не повторившуюся — популярность в эпоху наполеоновских войн; чуть позже декабристский заговор пробуждает интерес к Саллюстию). Для всего XVIII столетия чрезвычайно важен Панегирик императору Траяну Плиния Младшего; начиная с первых лет XIX века Плиний теряет популярность, и — в рамках его чрезвычайно суженного влияния — Письма начинают теснить Панегирик.
IX. Расцвет влияния латинской литературы, ее глубокое освоение приходятся прежде всего на эпоху от Елизаветы Петровны до Николая I и тесно связаны с развитием дворянской культуры в России. Это вызвано прежде всего тем, что интенсивное усвоение римской словесности обусловлено отношением в обществе и ее культурной элите к идее изящного. Лучше сочетаясь с классической программой, несколько хуже — с романтизмом, римская литература оплодотворяет любую эстетическую систему, где идея изящного играет первенствующую роль. На первом этапе интенсивного освоения — она полностью несовместима только с разного рода утилитарными программами,
X. Достаточно редким является универсализм по отношению к римской традиции — если говорить о поколениях, то он характерен только для тех, чье детство пришлось на елизаветинскую или екатерининскую эпоху, молодость и зрелые годы — на екатерининскую и кто сходил с жизненного поприща уже при Александре или Николае I (М. Н. Муравьев, Д. И. Хвостов, И. М. Муравьев-Апостол, А. П. Ермолов и др.). Позднее универсализм (напр., пушкинский или герценовский) является индивидуальным достижением и нисколько не характерен для эпохи.
XI. Судьба латинских авторов в России — очень огрубляя и обобщая — сложилась следующим образом:
1. Один из двух наиболее влиятельных римских авторов — Гораций; как образец для подражания он делит первенство с Овидием, как философ художественного творчества не знает себе равных. В течение всего XVIII столетия является законодателем вкуса и эстетических взглядов. Авторитет его Послания к Пизонам чрезвычайно высок. Среди тех, кто творчески перерабатывал его наследие, все крупнейшие поэтические имена эпохи — Кантемир, Тредьяковский, Сумароков, Ломоносов, Херасков, Державин, Муравьев. Он сразу становится самым переводимым латинским поэтом, выдерживая в этом отношении конкуренцию едва ли не со всей остальной римской поэзией вместе взятой. Романтическая революция обрушивается на него не сразу: несмотря на отдельные критические реплики, малые формы спасают от катастрофы его репутацию (здесь ему везет больше, чем Вергилию); однако в 40-х годах XIX в. его творчество подвергается ожесточенным атакам. исходящим из прогрессистского лагеря. Нельзя сказать, чтобы эти нападки причинили существенный ущерб его славе; но ко второй половине и к концу столетия он уходит в тень, как и вся римская культура, скомпрометированная в глазах общества толстовско-деляновской классической гимназией. В условиях доминирования морально-политических интересов Гораций не нужен; но когда они сменяются эстетическими, интерес к нему возобновляется. Самый ранний лирик — Катулл — в XVIII в. находится на периферии читательского внимания, как в оригинале, так и в переводах; те черты его творчества, которые делают его самым понятным и близким современности поэтом, создают ему популярность уже за рамками рассматриваемого нами периода.
2. В XVIII столетии наиболее влиятельными прозаиками являются Цицерон и Плиний Младший. Впоследствии Цицерон теряет престиж; от «Цицерона не читал» Пушкина до «мертвой воды» Блока прослеживается традиция отказа от его творчества. Цицерон как оратор и Цицерон как эстетический мыслитель находятся на периферии общественного сознания, но его влияние никогда не исчезает окончательно; авторитетных специалистов второй половины XIX — начала XX в. интересует юридический аспект красноречия Цицерона. В XIX столетии большее внимание привлекает история, нежели ораторская проза, и на первый план выходит Тацит. Он привлекает внимание прежде всего декабристов и западников. Общество сравнивает с ним первого русского историка, который создал литературно значимое повествование, — Н. М. Карамзина. Тацита прочитывают в оппозиционном ключе, с «применениями» к современной действительности; он воспринимается как «бич тиранов», и критик власти заслоняет описателя и диагноста общественных пороков. Наибольшей популярностью он пользуется в среде, где оппозиционные умонастроения сочетались с хорошим европейским образованием, — среди декабристов и западников поколения Грановского и Герцена. На первом плане — Анналы и Истории, малые произведения не пользуются такой популярностью. Остальные крупные историки Рима с монументальными полотнами — Ливий и Аммиан Марцеллин — находятся на периферии общественного сознания, хотя и не остаются без читателей. Саллюстий вызывает интерес как наставник в области теории и практики заговора: пик его популярности приходится на эпоху декабристов. Цезарем интересуется эпоха Петра и эпоха декабристов.
3. Золотой век крупнейшего римского поэта — Вергилия — приходится на золотой век римского влияния вообще. Для Сумарокова и Хераскова он оттесняет на второй план Гомера; в эпоху торжества романтизма он падает жертвой своего жанра — героической эпопеи, которая покидает центральное место в жанровой иерархии и начинает восприниматься как нечто предельно архаическое и заменяется сначала романтической поэмой (романом в стихах), а затем прозаическим романом. Он — вопреки моде — становится любимым поэтом некоторых из наиболее образованных представителей поколения, родившегося в 50–60-х годах XIX столетия. В начале XX в. сложились предпосылки для пересмотра оценки, исходящей из «романтической» эстетики; однако это было осуществлено лишь на уровне художественно-философской элиты.
4. Напротив, Овидий, разделяя первенство во влиянии с Горацием, постоянно оборачивался к обществу теми гранями своего таланта, которые могли вызвать отклик в каждый конкретный момент; сам характер его эпоса облегчал перевод отдельными эпизодами, и переводов или переложений историй из Метаморфоз было немало (в т. ч. не рассмотренные нами живописные разработки его сюжетов). Для классицистов от Хераскова до Мерзлякова он отчасти заслонен Вергилием; для романтической эпохи, напротив, становится куда более влиятельной фигурой. Он находит себе критиков в первую очередь среди филологов-профессионалов; крупнейшие поэты (А. С. Пушкин, А. А. Блок, А. А. Фет, М. И. Цветаева) неизменно берут его под защиту. Сравнительно велико влияние Катулла; значительно меньше — элегиков и комических поэтов.
5. Философское влияние античного Рима было весьма ограниченным; это объясняет сравнительно невысокую популярность философских трактатов Цицерона (хотя и у них находились внимательные и любящие читатели, напр., Н. М. Карамзин) и произведений Сенеки Младшего. Философия стоицизма была предметом интереса прежде всего в духовных учебных заведениях. Постоянный, но ограниченный интерес поддерживается к поэзии Лукреция (не приветствуемой церковной иерархией).
6. Критическое умонастроение находит себе опору не только в Таците, но и в Ювенале. Если читателям начала XIX в. нравственная позиция Горация кажется более близкой, к середине столетия желчь и пафос сатирика оказываются ближе лидерам общественного мнения. Но — в отличие от эстетов XVIII–XIX в., вписывавших Ювенала в определенную традицию от Горация до Буало — поздние поклонники исповедуют инструментально-утилитарный подход, и, поскольку для тех же целей можно с успехом использовать иные орудия, не слишком настаивают на своем интересе.
7. Поздний эпос — кроме Лукана — находится на периферии общественного сознания. У Лукана оказывается неожиданно много читателей и почитателей — в противовес общей тенденции, вне связи с оппозиционным духом, который можно вычитать в его творчестве. Скорее он противостоит Вергилию как певец «человеческого» и исторического на фоне божественного и мифологического. XVIII век благоволит к нему в лице своих лучших представителей — М. М. Хераскова, М. Н. Муравьева; в начале XIX в. отношение к нему резко ухудшается. Во второй половине XIX в. они окончательно теряют престиж — настолько, что актуальная эстетическая мысль забывает об их существовании. Возрождение интереса к античности на рубеже XIX–XX вв. обходит их стороной. Золотой век рецепции Клавдиана приходится на XVIII столетие, когда он служит одним из источников ведущего жанра эпохи — торжественной оды.
8. Довольно много внимательных и благодарных читателей — сравнительно с нашими ожиданиями — находит Плиний Старший.
9. Поэты сложные (Персий) и увлекающиеся формальными экспериментами (Авзоний) читаются мало и пользуются локальной популярностью (у Авзония находится влиятельный почитатель — В. Я. Брюсов, сделавший немало для распространения сведений о нем).
10. Латинские Отцы Церкви читаются в оригинале узким кругом лиц, прежде всего — из духовного сословия. Есть у них почитатели среди лиц высшей аристократии.
Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях:
I. Монографии.
1. Любжин А. И. Римская литература в России в XVIII — начале XX века. Приложение к «Истории римской литературы» М. фон Альбрехта. М., Греко-Латинский Кабинет Ю. А. Шичалина, 2007. с. (10, 5 п. л.).
2. Любжин А. И. Очерки по истории российского образования императорской эпохи = Essays on history of russian education of imperial epoch. M., Издательство Московского культурологического лицея № 1310, 2000. (10 п. л.).
II. Статьи[11].
3. Московский Благородный пансион. // Лицейское и гимназическое образование», 1997, № 1. Переработка: Мир школы, 2001, № 5. С. 50–57. Переработка с дополнениями: Лицейское и гимназическое образование, 2006, № 5. С. 85–89. № 6. С. 67–73. № 9. С. 81–86 (1, 1 п. л.).
4*. Любжин А. И. Академические гимназии при Московском университете. // Лицейское и гимназическое образование, 1998, № 2–3. Переработка: Педагогика, 2002, № 4, 69–75 (1, 1 п. л.)
5*. Любжин А. И. Харьковский коллегиум в XVIII и начале XIX столетия. // Лицейское и гимназическое образование, 1998, № 6. С. 19–24, 1999, № 1 (8). С. 17–27. Переработка: Харьковский коллегиум в XVIII — начале XIX столетия. // Вопросы образования. № 3. 2008. С. 240–263 (1, 9 п. л.).
6*. Любжин А. И. Алексей Федорович Мерзляков. Очерк из истории отечественной педагогики пушкинской эпохи. // Лицейское и гимназическое образование, 1999, № 3 (10). С. 54–58. Переработка: Комментарий к одной строке из пушкинского письма. Алексей Федорович Мерзляков. — Пушкинский альманах. 1799–2004. Народное образование, 2004, № 5. С. 236–239 (0, 75 п. л.).
7. Любжин А. И. «Россиада» М. М. Хераскова и латинская эпическая поэзия. // Греко-Латинский кабинет, № 3. 2000. С. С. 28–42 (0, 9 п. л.).
8*. Любжин А. И. О некоторых литературных приемах Овидия в «Метаморфозах». // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Вып. IV. Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. СПб., 2000. С. 58–62 (0, 2 п. л.).
9*. Любжин А. И. О пользе наук и училищ. Три документа из истории российского образования. — Народное образование в России. Исторический альманах. // Народное образование, № 10, 2000 г. С. 69–76 (0, 75 п. л.).
10*. Любжин А. И. Париж, столица Франции… Ищите, дети! Домашнее воспитание на рубеже XVIII–XIX веков. // Народное образование в России. Исторический альманах. — Народное образование, № 10, 2000 г. С. 131–136 (1, 3 п. л.).
11. Любжин А. И. Техника эпического каталога в «Россиаде» Хераскова. // Античность в современном измерении. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции, посвященной 35-летию научного кружка «Античный понедельник». Казань, 14–16 ноября 2001 г. Казань, 2001. С. 100–102 (0, 1 п. л.).
12*. Любжин А. И. Catull. carm. 51, 13–16: опыт комментария. // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Вып. V. Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. СПб., 2001. С. 81–84 (0, 25 п. л.).
13. Казанский Н. Н., Любжин А. И. Античная литература. — Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия в трех томах. Т. 1. Кн. 1. СПб., 2001. С. 67–74. Перепечатка: Русско-европейские литературные связи. XVIII век. Энциклопедический словарь. Статьи. Факультет филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета. СПб., 2008. С. 274–296 (0, 75 п. л. — написанная мною латинская часть).
14. Любжин А. И. Техника эпического каталога в «Россиаде» Хераскова. // Μνῆμα. Сборник научных трудов, посвященный памяти профессора Владимира Даниловича Жигунина. Казань, 2002. С. 512–518 (0, 4 п. л.).
15*. Любжин А. И. Эпические источники «Россиады» М. М. Хераскова. // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Вып. VI. Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. СПб., 2002. С. 101–107 (0, 4 п. л.).
16. Любжин А. И. poeta doctus как понятие эстетики неотериков. Опыт комментария к Catull. 1. // Colloquia Classica et Indogermanica. Классическая филология и индоевропейское языкознание. СПб., «Наука», 2002. С. 511–516 (0, 35 п. л.).
17*. Alexius philtrius (qui et Liubzhin) Inguari f. De Alexii Jermolovii petri f. bibliotheca Latina. // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского. СПб. Вып. VII, 2003. С. 59–62 (на латинском языке; 0, 25 п. л.).
18. Любжин А. И. Латинский язык в Харьковском коллегиуме (1722–1830). // Древний мир и мы. Вып. 3. СПб., 2003. С. 147–153 (0, 4 п. л.).
19. Любжин А. И. Казанская гимназия в XVIII столетии. //Лицейское и гимназическое образование, 2003, № 8. С. 24–29; № 9. С. 19–23. 2004, № 1. С. 33–36 (1, 5 п. л.).
20*. Любжин А. И. Латинская образованность и римская литература в России в XVIII — начале XX века. // Вестник древней истории, 2004, № 1 (248), с. 190–201 (1 п. л.).
21. Alexei Liubzhin. La terza edizione completa di properzio in lingua russa. // properzio nel genere elegiaco. Modelli, motivi, riflessi storici. Atti Convegno Internazionale. Assisi, 27–29 maggio 2004. A cura di Carlo Santini e Francesco Santucci. Assisi, 2005. p. 477–480 (на итальянском языке; 0, 2 п. л.).
22. Любжин А. И. Латинская библиотека генерала А. П. Ермолова. // Альманах библиофила. Вып. 29. М., 2005. С. 37–46 (0, 5 п. л.).
23*. Любжин А. И. Об одном из способов знакомства русской публики с римской литературой в XVIII столетии (к постановке вопроса). // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского. СПб. Вып. IX. 2005. С. 146–152 (0, 4 п. л.).
24*. Ленчиненко М. В., Любжин А. И. Философские трактаты Цицерона в библиотеке М. Н. Муравьева. // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского. СПб. Вып. IX. 2005. С. 135–142.
25. Любжин А. И. «Я никогда не искал и не ищу величия». А. Н. Шварц — министр народного просвещения России. // Лицейское и гимназическое образование, 2005, № 4. С. 33–39 (0, 8 п. л.).
26*. Любжин А. И. Русские читатели Проперция: Ф. Я. Козельский. // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Вып. X. 19–21 июня 2006 г. СПб., «Наука», 2006. С. 177–179 (0, 15 п. л.).
27*. Любжин А. И. Александр Федосеевич Бестужев — первый русский переводчик Феогнида. // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского. СПб. Вып. XI. 19–21 июня 2006 г. СПб., «Наука», 2007. С. 207–209 (0, 15 п. л.).
28. Любжин А. И. Краткий очерк истории российского просвещения в XVIII столетии. // Лицейское и гимназическое образование, 2007, № 3. С. 37–52 (1, 3 п. л.).
29. Любжин А. И. М. М. Херасков и Гомер (на материале «Россиады»). // Россия и Греция: диалоги культур. Материалы І международной конференции. Часть ІІ. Петрозаводск, Издательство ПетрГУ, 2007. С. 252–256 (0, 25 п. л.).
30. Ленчиненко М. В., Любжин А. И. Философские сочинения Цицерона в библиотеке М. Н. Муравьева. // Про книги. № 3. 2007. С. 39–42 (0, 2 п. л.).
31*. Любжин А. И. О Шевыреве С. П. // Вопросы образования. № 1, 2007. С. 269 (0, 05 п. л.).
32. Любжин А. И. Ода М. М. Хераскова на восшествiе на престолъ Императора Александра I. // Рукописи. Редкие издания. Архивы. Из фондов Отдела редких книг и рукописей. К 60-летию образования Отдела. М., Водолей publishers, 2008. С. 181–209 (1, 25 п. л.).
33. Любжин А. И. Гораций в литературной полемике в России середины XIX века. // Russian Text (19th Century) and Antiquity. Русский текст (19 век) и античность. Budapes-Tartu, 2008. С. 54–64 (0, 5 п. л.).
34*. Любжин А. И. «Россиада» М. М. Хераскова и античная эпическая традиция. // Acta Linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. СПб., «Наука», 2008. С. 415–452 (2 п. л.).
35*. Любжин А. И. Максим Иванович Невзоров: «Друг юношества» и враг Рима. // Индоевропейское языкознание и классическая филология. — Вып. XIII. 22–24 июня 2009 г. СПб., «Наука», 2009. С. 410–420 (0, 6 п. л.).
36*. Любжин А. И. Античные интересы Ивана Ивановича Шувалова (Заметки к каталогу его библиотеки). // Индоевропейское языкознание и классическая филология. — XIV. 21–23 июня 2010 г. Часть ІІ. СПб., «Наука», 2010. С. 164–175 (0, 6 п. л.).
37*. Любжин А. И. Новоевропейский эпос в «Россиаде» Хераскова. // Русская литература. Историко-литературный журнал. № 1. 2010. С. 3–25 (1, 5 п. л.).
38*. Любжин А. И. Сочинения об античной словесности в библиотеке просвещенного русского дворянина (На примере библиотек М. Н. и Н. М. Муравьевых и А. П. Ермолова). // Индоевропейское языкознание и классическая филология — XV. 20–22 июня 2011 г. СПб., «Наука», 2011. С. 340–347 (0, 5 п. л.).
39*. Любжин А. И. Латинская Генриада: эпическая традиция в двойном зеркале. // Variante loquella. Сборник статей к семидесятилетию А. К. Гаврилова. СПб., 2011. Bibliotheca classica petropolitana. = Hyperboreus. Studia classica. petropoli. Vol. 16–17. 2010–2011. Bibliotheca classica petropolitana. Verlag C. H. Beck München. С. 493–500 (0, 5 п. л.).
40*. «Русский Гомер». Опыт о литературной репутации. Часть 1. — Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. № 5. Сентябрь-октябрь. Издательство Московского университета, 2011. С. 83–96 (1 п. л.).
III. Переводы, комментарии, публикации:
41. Секст Проперций. Элегии. М., 2004 (с переводом предисловия Джорджо Бонаменте и примечаниями; 8 п. л.).
42. Любжин А. И. [Письмо Л. К. Валькенара кн. Н. Б. Юсупову. Перевод с латинского языка посвящения Theocriti, Bionis, et Moschi Carmina bucolica. Graece et latine… – Lugduni Batavorum, 1779]. Приложение к статье К. Г. Боленко «„Превосходнейший князь…“: К истории переписки князя Н. Б. Юсупова и профессора Л. К. Валькенара». // Век просвещения. І. Пространство европейской культуры в эпоху Екатерины ІІ. М., «Наука», 2006. С. 477–481 (в соавторстве с А. И. Солоповым; 0, 25 п. л.).
43. Любжин А. И. Латинские документы в кн.: История Московского Университета (вторая половина XVIII — начало XIX века). Сборник документов. Том 1. Составитель, автор вступительных статей и примечаний Д. Н. Костышин. М., Academia, 2006. № 88. С. 145–146; № 89. С. 147; № 143. С. 213–214; № 156. С. 223; № 157. С. 224–225; № 162. С. 230–231; № 184. С. 258. (0, 2 п. л.).
44. Любжин А. И. Письма А. Н. Шварца и Ф. Е. Корша С. И. Соболевскому. Публикация, комментарии А. И. Любжина. // Discipuli magistro. К 80-летию Н. А. Федорова. Сост. Н. П. Гринцер, Д. О. Торшилов. — Orientalia et classica. Труды Института восточных культур и античности. — Вып. XV. — М., РГГУ, 2008. С. 448–472 (1, 1 п. л.).
[1] Мальчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в поэзии А. С. Пушкина. В 2-х чч. Петрозаводск, 1997–1998; особенно т. 2, гл. «Рецепция латинской поэзии».
[2] Успенская А. В. Античность в русской поэзии второй половины XIX века. СПб., Библиотека Российской академии наук, 2005. Мы называем авторов, для которых рассмотрена римская традиция.
[3] Шмараков Р. Л. Поэзия Клавдиана в русской рецепции конца XVII – начала XX вв. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 2008.
[4] Albrecht M. von. Geschichte der römischen Literatur, München, New providence, London, paris 21994.
[5] Зелинский Ф. Ф. Из жизни идей. Том ІІ. Древний мир и мы. Изд. 2-е. СПб., 1905.А. И. Зайцев. Избранные статьи. Том 2. Под ред. Н. А. Алмазовой и Л. Я. Жмудя. СПб., 2003.
[6] К истории русского классицизма. — Пумпянский Л. В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М., «Языки русской культуры», 2000. С. 60.
[7] Пумпянский Л. В. Классическая традиция… С. 153.
[8] Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков. М., «Индрик», 2001. С. 100.
[9] Культура «готового слова» и ее смена «свободным словом»: см. работы А.В. Михайлова: Языки культуры. М., 1997. 510 слл.; Обратный перевод. М., 2000., 28 сл. et passim.
[10] Правила высшего красноречия, postum, СПб., 1844.
[11] Знаком (*) отмечаются периодические издания, входящие в перечень, рекомендованный ВАК Министерства образования РФ (редакция 17.06.2011 г.) для филологических специальностей.