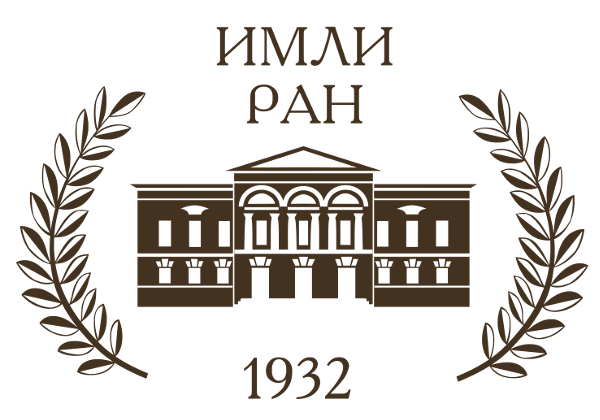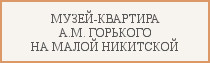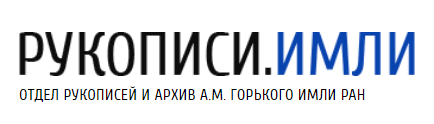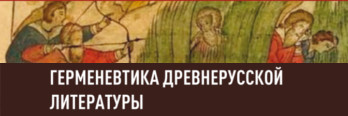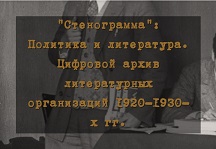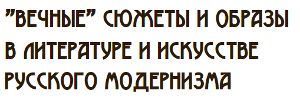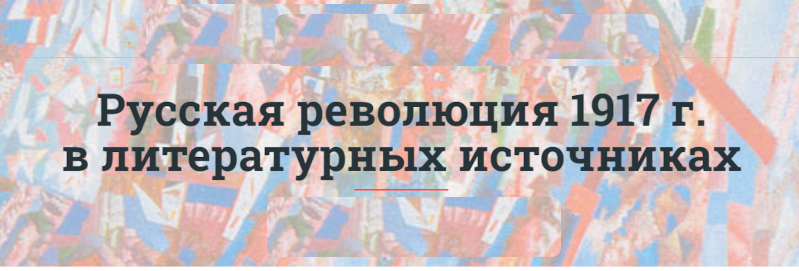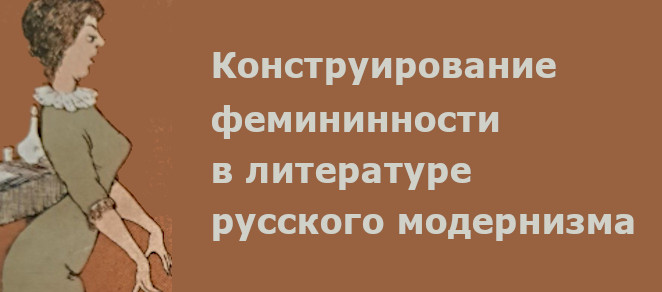С.С. Аверинцев
«СКВОРЕШНИЦ ВОЛЬНЫХ ГРАЖДАНИН…»
Слова, вынесенные в заглавие нашей статьи, взяты из поэтической самохарактеристики, которая вышла из-под пера шестидесятилетнего Вяч. Иванова в августе 1926 г., и Риме, когда Россия окончательно осталась за спиной:
Повсюду гость и чужанин,
И с музой века безземелен,
Скворешниц вольных гражданин,
Беспочвенно я запределен.
Бегло, оставляя тему для подробного рассмотрения в дальнейшем, отметим отрешенное спокойствие тона, которое столько раз называли «холодностью» и которое так резко контрастирует с надрывом, присущим обычно трактовке темы изгнания в творчестве эмигрантов. За эмигранта Вяч. Иванов себя, в сущности, и не почитал; о том, что он «беспочвен» и «запределен», или, как сказано в этом же стихотворении чуть ниже, «скиталец» и «отщепенец», он узнал не сегодня и не вчера, а еще до всяких политических катаклизмов. Ведь и само это стихотворение — переработка сонета, датированного еще 1915 годом, в коем уже были чудные строки:
…Я — царь подоблачных лачуг
И жрец беспочвенных молелен.
И в Петербурге, в шумную, людную пору «Башни», он был «запределен»; и в родной Москве, вешние тополя и старинные колокола которой снились ему под конец жизни, он был «беспочвен». Другим он быть не мог. Это судьба — а судьбу свою поэт, послушный сначала учению Ницше об amor fati, а затем христианским заветам о сыновней покорности Отчей воле, всемерно старался любить и, по любимому своему выражению, «волить». Да и художническая ортодоксия в понимании Вяч. Иванова требовала «святого Да» связному сюжету судьбы. Сарказмы — не для него. Мягкая усмешка благоволения, чуть старческая, пристойно юродская, — ведь титул гражданина скворешен сам по себе может напомнить авангардистов вроде Хлебникова, если не обериутов! — освещает эти строки, формулирующие итог целой жизни.
Только строки эти должны быть прочтены во всей полноте своего конкретного смысла. Мы слишком привыкли, встречаясь с теми оборотами общесимволистской лексики, которые квалифицируются насмешливой современной идиомой как «поэтизмы», понимать их широко до полной расплывчатости. Вот и здесь: разве не все символисты per definitionem были или желали быть «запредельными»? Ну, как же: «Неслыханные перемены, // Невиданные мятежи», и прочая. Вроде бы запредельность — примерно то, что Цветаева будет (на свой лад вполне точно) называть «безмерностью». А уж кто «запределен», тот, наверное, и «беспочвен», и «скиталец», и «отщепенец»; на безличном уровне общих мест Серебряного века все эти слова — более или менее синонимы, подходящие, скажем, к тому же Блоку никак не меньше (а то и больше, поскольку блоковскому облику присуща черта безнадежной катастрофичности, ивановскому облику чуждая). Но в том-то и хитрость поэзии Вяч. Иванова особенно поздней, в том-то и ее секрет, утаенный от невнимательного взгляда, что она, пользуясь с уникальной густотой словами так называемого высокого слога, т. е… казалось бы, поэтизмами из поэтизмов, наделяет каждое слово такой дотошной смысловой точностью, какой у поэтизмов заведомо быть не может. Слово буквально до отказа значит то, что оно значит; смысл дан прегнантно, как в любезных Вяч. Иванову древних изречениях. Вот и здесь: беспочвенная запредельность — это никоим образом не синоним «безмерности», не еще один эквивалент трагического артистизма, но совершенно определенное качество судьбы, которого не было и не могло у Блока с его удержавшимся на всю жизнь остродомашним, семейным, «бекетовским» восприятием России — через Шахматово, через «мама и Люба», а всего мироздания видимого и невидимого — непременно через Россию. Это полностью исключает и беспочвенность, и запредельность в ивановском смысле. Еще вспомним для контраста комплексы, воспитанные арбатским детством, которые всю жизнь не покидали Бореньку Бугаева и на какой-то манер, невеселый, недобрый, но бесспорный, укореняли его. Никакие экзорцизмы Штейнера не могли этого изгнать. Вспомним даже драматическую замурованность Иннокентия Анненского в ненавистном, проклинаемом, но и абсолютно необходимом ему и его Музе бытовом пространстве. Но в особенности вспомним, разумеется, многих поэтов эмиграции. Чем настойчивее делали они изгнанничество, рвущее корни — «Хорошо, что нет царя», //Хорошо, что нет России…», — неисчерпаемой темой саркастической поэзии, тем жестче замыкали они себя впределах России мысленной, отделяя себя от всякого шанса запредельности. От всего сердца почтив подлинность личных трагедий, констатируем, что во всем этом типе рокового самоощущения внутри безвыходного круга национальной проблематики для «запредельного» Вяч. Иванова было нечто чуждое. Словно бы духовная клаустрофобия стремила его каждый раз «за предел»— вовне по отношению к каждому замкнутому кругу. Не то чтобы, Боже избави, родная земля, шепчущая ему «о колыбели, о святыне», мало для него значила. О нет, нам еще предстоит с удивлением убедиться, до какой степени славянофильская компонента, разумеется, изрядно переработанная, неизменно остается фоном его мысли и фантазии. Однако «родное» никогда не становится для него целым; целое — только «вселенское». Недаром сборник самых патриотических статей, какие ему только приходилось писать, озаглавлен у него: «Родное и вселенское». Это «…и вселенское»— как размыкание всех замкнутых кругов. Поэтому у него не сыскать ноты надрывного семейного скандала, звучащей и у Блока («Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?… // Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться…»), и у Андрея Белого («Исчезни в пространство, исчезни, // Россия, Россия моя!») Его беспочвенность слишкомзапредельна для такой провинциальной, безнадежно провинциальной эмоции, как русская русофобия. Скорее он удивит тем спокойным, отчужденным благоволением, каким из далей «вселенского» поглядит на «родное»:
Край исконный мой и кровный
Серединный, подмосковный,
Мне причудливо ты нов,
Словно отзвук детских снов
Об Индее баснословной.
Нет ничего менее похожего на безысходность блоковского отношения к «нищей России», то хвалимой превыше всего на свете, то хулимой, как неотвязная роковая женщина, но всегда и во всем — единственной. Блок мог пререкаться с ней:
Что же маячишь ты, сонное марево?
Вольным играешься духом моим?
У Вяч. Иванова нет причин для такого надсада, потому что его Россия — может быть, не бесславнее, однако и не ближе, чем Средиземноморье: «Умбрских гор синеющий кристалл». Он недаром сказал о себе однажды, что он — «наполовину чужеземец, из учеников Саиса, где забывают род и племя». Разумеется, это можно назвать холодностью; ибо интеллектуальная страсть, им владевшая, была направлена на другой предмет. Как сказал о ней сам поэт — «Одним всецелым умирима». Именно внутри всецелого и вселенского, в соотнесении с Галилеей и Иерусалимом, с Афинами и Римом, но также, например, с христианской средневековой легендой о светлом индийском царстве Пресвитера Иоанна, — разработанной особо в «Повести о Светомире царевиче», но подразумеваемой, кстати, и в отсылке к «Индее баснословной» — получает Россия для скитальца и отщепенца свойсмысл. Но так и современность значима лишь внутри связи веков и тысячелетий; Вяч. Иванов жил тем, что у М М. Бахтина называется «большим временем».
С высоты ивановской вольной скворешни — или, если вспомнить образ из другого стихотворения, написанного еще в Москве, родной голубятни — старый и все никак не затихающий русский спор между почвенничеством и западничеством выглядит примерно так. Почвенничество, замыкающее личность в тождестве этноса и страны, есть провинциализм, так сказать, топографический. Но и западничество, фетишизирующее современность и прогресс, предстает как провинциализм хронологический. Для Вяч. Иванова, отщепенца миролюбивого, но несговорчивого, то и другое чересчур тесно. В стихах про голубятню он с энергичным отвращением описал, что случилось бы, согласись он принять устав любого из наличных видов узости:
Я стал бы вам нужен, и сроден, и мил,
С недужным недужен, с унылым уныл.
Какой заряд отталкивания вибрирует в этой ехидной игре звуков «у-у», «ы-ы», расшифровывающей «нужное» (современнику и соплеменнику) как «недужное» (ибо замыкающее в пределах унылого тождества и чреватое надрывом)! Это может, пожалуй, напомнить Кузмина; что же, два поэта были некоторое время дружны и не так уж плохо друг друга понимали. Но различие тоже немаловажно. Для того, чтобы играть в игру Кузмина, необходимо было отказаться от того благоговейного, неожиданно наивного доверия к основам бытия, без которого Вяч. Иванов непредставим. Юродивая старческая усмешка, упомянутая выше, нимало не отменяет всегдашней ивановской серьезности.
Тем примечательнее, что серьезность эта от начала и до самого конца обходится без уныния, без надрыва и надсада.
…До самого конца — вот чему стоит подивиться. Скажем несколько слов специально об этом.
Современники запомнили того, кого видели: «Вячеслава Великолепного», как не без ехидства титуловал хозяина «Башни» Лев Шестов. Да, Вяч. Иванов, уже немолодым вступив в литературную жизнь, собственными усилиями способствовал самоопределению целой культурной эпохи, ставя ее, как театральное «действо», потрудившись в качестве теоретика этого представления, но также в качестве драматурга, режиссера — и одного из главных актеров. Все это было: бессонные ночи на «Башне», Блок, читающий в предрассветные сумерки «Незнакомку», и еще Кальдерон в постановке начинающего Мейерхольда, как спектакль в спектакле.
Но куда больше поражает другое, менее замеченное: что когда эта эпоха внутренне, а затем и внешне исчерпаласебя, когда сам Вяч. Иванов исчерпал до конца и без остатка ее возможности в расточительных вариациях обоихтомов «Сог ardens», — «Пора сказать: я выпил жизнь до дна...» — он отнюдь не кончился, не превратился ни в бледную тень самого себя, как Бальмонт, ни в обеспокоенного подражателя собственных учеников, как Брюсов. Напротив, ему предстояло написать едва ли не лучшее из того, что он написал: «Человека», «Зимние сонеты», а позднее, уже в римском изгнании, — «Римские сонеты», «Повесть о Светомире царевиче», «Римский дневник 1944года». Престарелый поэт, переживший конец прежней России, оставшийся без читателей, в литературном вакууме, — все, что угодно, только не жалок. Он в полноймере сохраняет и чувство осмысленности собственного существования, и живой интерес к происходящему. Былой собеседник Владимира Соловьева, а после — гостей «Башни», становится собеседником Мартина Бубера, Жака Маритена, Торнтона Уайльдера.
По отношению к катастрофической истории века, загонявшей стольких хранителей старого культурного предания в тупики бесплодных и безнадежных сарказмов, этот необычный человек сохраняет достойную восхищения эмоциональную дистанцию. Он продолжает дышать «большим временем». Как характерно его письмо попросившему о совете младшему сотоварищу по изгнаннической судьбе, датированное концом 1935 г.:
«Вы сетуете о "разрушении русской культуры"; но она не разрушена, а призвана к новым свершениям, к новому духовному сознанию. Притом, как есть одна Истина и одна Красота, так и культура в существенном и последнем смысле этого слова, — культура, как духовное самоопределение и самораскрытие человека, — выражение вселенского единства и дело вселенского единения. /…/ Итак, русскому беженцу, действенно верному заветам русского духа и русского духовного дела, надлежит прежде всего вырваться из бытовой и психической замкнутости и затхлости русских "колоний"…» [1].
Ученость, которой столько корили Вяч. Иванова, оправдывает себя именно теперь: она расчищает загроможденный тучами широкий кругозор, позволяя увидеть беду сегодняшнего дня в нескончаемой перспективе смертей и возрождений. Символ этой перспективы — воспетая Вергилием гибель Трои, воскресшей как Рим. И последний символист, на десятилетия переживший символизм, обращает к Риму слова, которые он мог бы, пожалуй, обратить к самому себе:
И ты пылал и восставал из пепла,
И памятливая голубизна
Твоих небес глубоких не ослепла.
И помнит в ласке векового сна
Твой вратарь кипарис, как Троя крепла,
Когда лежала Троя сожжена.
Да, этому научает история, даже вычитанная из книг, если книжная мудрость в достаточной степени переработана сердцем: что жизнь — неимоверно живучая кошка, что все уже много, много раз кончалось, горело пожаром Трои, чтобы сызнова начинаться. Интересно, что за много десятилетий до процитированных римских строк, когда концом старой России еще и не пахло, у молодого поэта в довольно ученических стихах ясно обозначилась та же отрешенная, «запредельная» надежда на поворот великого цикла, на то, что приходит после всякого конца:
…И умолкли звуки жизни,
И развеян прах из урн;
На безмолвной, долгой тризне
Пировать идет Сатурн.
И сидит старик, и, взоры
В дальний мрак вперяя, ждет:
Скоро ль новый блеск Авроры
Солнцебога приведет.
Ибо не последний смысл истории — в том, что она освобождает ум от собственной фатальности: история как знание — от истории как претерпевания.
Можно, конечно, еще раз назвать эту свободу в историческом времени — холодностью. Во всяком случае, речь идет о том самом качестве, которое сам поэт назвал своей «запредельностью»; и трудно отрицать, что перед лицом русской истории XX столетия сухие глаза и ясная голова — хотя бы оригинальнее, чем слезливость и бред, эти проявления несвободы. Говоря это, мы никоим образом не отказываемся, Боже избави, снимать шапку перед неподдельными слезами и неподдельным безумием, перед каждой подлинной трагедией. Но не все же переживать обстоятельства времени, скажем, по Георгию Иванову, находя в тупиках истории повод к тому, чтобы загнать в тупик собственную живую душу. Ведь этим никому и ничему не поможешь. Лучше прислушаемся, в каком тоне рассуждает Вяч. Иванов в семейном письме об одном итальянском споре на русские темы, каковому только что был свидетелем, да и участником. На дворе 9 мая 1927 года; поэт, уже профессорствующий в католическом Колледже Борромео в Павии, несколько месяцев тому назад узнавший о закрытии словесного отделения в Бакинском университете по требованию тамошних комсомольцев и воспринявший эту весть как знак окончательного подтверждения изгнаннической судьбы (ср. письмо от 7 января 1927 г.), чрезвычайно далек от самомалейшей самоидентификации с «советской действительностью». Но стоит ему услышать, как другой изгнанник, бывший ректор Томского университета Н. Оттокар, на глазах у итальянцев, у чужих, слишком уж легко рассуждает о«крушении» России, его душа неожиданно и нелогично возмутилась: «Я почему-то почувствовал себя патриотом современной России». Сама по себе эта амбивалентность для психологии изгнанников совершенно обычна. Что, напротив, совершенно нетривиально, так это юмор, которым Вяч. Иванов тут же, по горячему следу, комментирует собственные эмоции:
«Не поймешь, что за вздор, что за чепуха, что, можно сказать, за дрянь (выражаясь патетически в гоголевско-курлыковском [2] стиле) в головах и душах сбитыхс колеи русских людей, сынов "задавленной", в наши дни. "Odi et ато", как сказал Катулл. И "coincidentia оppositorum", как изрек философ Николай Кузанский. Мерзавец, — присовокупил бы Кузьма Прутков, — еще Тютчев сказал: умом Россию не понять, — ты же паки тщишься объять необъятное"» [3] .
Вот он, запредельный отщепенец. Там, где Блок сказал бы с безоговорочной серьезностью: «И страсть, и ненависть к отчизне», или замолчал бы с серьезностью еще более смертельной, Вяч. Иванов еще находит силы взгляда со стороны, для ученого самопередразнивания, для карнавала. И это притом, что лаконичный эпитет «задавленная» в применении к России достаточно серьезен. Довольно понятно, что помянутый Бахтин проявлял к Вяч. Иванову живой интерес (и жаль, что он не мог знать тех его поздних и «домашних» текстов, какие знаем мы).
Но вот уже речь идет не об одной России — о планете; правда, на уровне довольно отвлеченного разговора. Разговор состоялся 7 января 1949 г., за несколько месяцев до тихой кончины поэта. Собеседником был молодой человек, пришедший к Вяч. Иванову с наброском своей музыкальной поэмы о грядущем нашествии ледников. Ответом были стихи:
Сползая, медленно ль истают
Иль мир оденут ледники,
О том Природу не пытают
Платоновы ученики.
Умрем, — как от земли далеким
Себя почувствуем, когда
Взойдет над глетчером глубоким
Меня позвавшая звезда.
Гул сфер наполнит слух бесплотный…
Из гармонических пучин
Расслышу ль гор язык немотный —
Глухие рокоты лавин?
О, конечно, этим строкам идет быть предсмертными. Разве что в последних творениях Гёте встречается такая же полнота одухотворения естественной старческой немощи. Почти «бесплотный» слух уже вправе принимать грамматически диковинные сочетания — «далеким // Себя почувствуем»— которые только сильнее подчеркивают отрешенность говорящего. Но отсылка к Платонову учению воспрещает понять эту «предсмертность» чересчур уж биографически, свести ее к простенькой эмпирии. Платон заповедал своим ученикам понимать всю свою жизнь как «умирание» в некоем позитивнейшем и весьма радостном смысле: как отрешение, освобождение. Как «запредельность». И согласимся, что Вяч. Иванов мерно следовал этому завету и тогда, когда ему предстояло еще много годов и десятилетий земного бытия.
Как оценить эту редкостную дистанцию между умом поэта, слышащим все звуки из собственных «гармонических пучин», — и злобой дня? Что это? Бесстрастие? Бесчувственность? Кто вникал в письмо Шарлю дю Босу (1930), тот почувствовал живущую в нем страсть. Чего стоит неожиданное признание, что если его что отделяет от беснования большевиков, этих «одержимых вселенской религии навыворот», то уж никак не ностальгия по старому культурному уюту! Тут трудно не вспомнить обращение носителей Христова огня к своему Господу, которое неожиданно обжигает нас в ивановском «Человеке»:
«Явись, — поют, — спасая и губя!
Все озарит Твой лик — и все расплавит!
На камне камня в храме не оставит.
Нерукотворный храм, зовем Тебя!»
Да, это страсть, перед лицом которой странновато говорить о холодности, — но страсть, до конца интеллектуально переработанная, до конца включенная в контекст «всецелого» и тем «умиренная».
Подумать только, что этот «ученик Саиса», внутренне дисциплинированный гражданин мира, столь невозмутимо принимавший реальности нашего столетия, родился когда-то на окраине Москвы, в разночинской семье, в такие разночинские шестидесятые годы прошлого века; что его первым серьезно пережитым историческим опытом было событие убийства Александра II. (В год, когда его жизнь начиналась, в «Русском вестнике» как раз печаталось «Преступление и наказание»; в год, когда она окончилась, в аргентинском издательстве вышел сборник Хорхе Борхеса «Эль Алеф»; эти синхронизмы дают понятие о дуге, которую успела тем временем описать часовая стрелка культурной истории человечества.) Вяч. Иванов прошел длинный, очень длинный путь — в историческом времени и в пространстве духовных поисков.
Попытаемся проследить этот путь.
* * *
Наша задача нелегка. Существует некоторое количество объективных причин, сильно затрудняющих написание биографии Вяч. Иванова, в особенности же биографии интеллектуальной. То ли дело Блок — он весь, как на ладони, от шуточных детских стишков, любовно сбереженных семьей, до самой кончины. Сюжет жизни Вяч. Иванова, в особенности на ранних своих стадиях, предшествовавших «Башне», куда хитрее укрыт от биографа. Как известно, в русскую литературную и культурную жизнь поэт вошел не только совершенно зрелым, но и немолодым уже человеком, на исходе четвертого десятка: «Слегка согбен, не стар, не молод», — как вспоминал Блок. Это уже канун 1905 года. «Иванов сказал!»— Был Иванов!» — «Иванов сидел!» — «Боря, знаешь: Иванов приехал…», — будет Андрей Белый передразнивать в мемуарах литераторские разговоры в Москве тех месяцев [4]. Эффект этой мифологической «эпифании» в немалой степени зависел от того, что это был — как то и приличествует явлению языческого божества из нездешних бездн или выходу мудреца из пустыни — почти мгновенный шаг в известность из безвестности; как сказал тот же Блок, «из стран чужих, из стран далеких». И только после этого Вяч. Иванов становится по-настоящему доступен для летописцев его жизни.
Почти единственный свидетель раннего периода жизни Вяч. Иванова — он сам. Но по природе он не был мемуаристом, и причину этого недавно объяснил нам в своих беседах с швейцарскими журналистами Р. Обером и У. Гфелером сын поэта Д. В. Иванов: «Кто не был ностальгичен, так это мой отец. Самое слово "ностальгия" было ему глубоко чуждо. Он жил в настоящем, и потому-то он никогда не писал воспоминаний и записок» [5]. Поэтически просветленный образ первых лет он дал в поэме «Младенчество»; рассказ о себе в четкой, сжатой, вдумчивой прозе, доведенный до времени «Башни» — в «Автобиографическом письме С. А. Венгерову». Прозаический текст включает, как это обычно для поэта, любившего цитировать в своей прозе свои стихи, ряд строф из «Младенчества»; однако, если содержательно оба повествования, возникшие почти одновременно, согласуются между собой, интонационно они весьма несходны. Поэма, как мы и ожидали бы от теоретика мифотворчества, в чрезвычайно высокой степени романтична. Напротив, «Автобиографическое письмо» тяготеет к деловой точности (доходящей до внешнего апогея по ходу повествования о научных трудах в Германии — «Критические анализы Фалена меня увлекали, тогда как Кирхгоф был скучен; дискуссии у Гюбнера велись по-латыни…», и прочая). Блок написал для того же Венгерова автобиографию помечтательнее. У Иванова это не только особенность слога. Определенные обстоятельства, хотя нимало не порочащие поэта, однако же по природе своей прозаические и, так сказать, дегероизирующие, коих нам придется вскоре коснуться, изложены столь отчетливо и ответственно, что для нас лично было бы затруднительно усомниться в высокой степени правдивости рассказа в целом. Однако по жанру своему «Автобиографическое письмо» — даже не мемуары, а как бы концентрат мемуаров, где какое-нибудь вводное предложение намечает смысл, который мог бы составить содержание целой главы. Повествователь о «добашенном» Вяч. Иванове принужден работать почти исключительно с названным концентратом [6]; как избежать ему роли немудрящего повара, добавляющего от себя — воду?! А между тем, как мы надеемся показать, годы необычно затянувшегося становления имеют в жизни Вяч. Иванова особую важность.
Но дело даже не только в этом. Биография мыслящего разночинца, живущего куда интенсивнее в пространстве культуры, нежели в иных пространствах, в значительной мере совпадает (по замечанию Осипа Мандельштама, другого мыслящего разночинца) со списком прочитанных Книг. Вяч. Иванов читал много и систематично; его круг чтения был, пожалуй, богаче, нежели у кого бы то ни было из его собратьев по символизму. Но вот реконструировать границы этого круга почти невозможно. Если у Д.С. Мережковского, как издевался Андрей Белый, вычитанное по утру аккуратно попадает к вечеру на страницу очередного романа; если у самого Андрея Белого, у Блока и многих других, менее славных, за прочтением взволновавшей книги, как правило, следовала эмоциональная реакция в эссеистической прозе или в стихах, — для Вяч. Иванова назвать (даже в статье, не говоря уже о поэзии) имя автора и титул произведения было каждый раз сакраментальным актом именования, одновременно обрядовым и, так сказать, культурно-дипломатическим, ибо имплицировавшим приобщение имени к утверждаемомуканону. Исключения имеются, но именно как исключения, подтверждающие правило. А из такого ритуализованно-статуса имени вытекает его редкость. Прочитав книгу, может статься, глубоко ее пережив, поэт вовсе не спешит ее нам назвать. Вот два колоритных примера. Из одной статьи Вяч. Иванова в другую кочует (в собственном его стихотворном переводе) известный монолог Ганса Закса из вагнеровских «Мейстерзингеров», разъясняющий свойство поэзии быть истолкованием сновидений («Wahrtraumdeuterei»). Поэт живо интересовался Рихардом Вагнером и посвятил ему важную статью («Вагнер и Дионисово действо», 1905), однако, принципиально не допускал его в свой канон: да, Вагнер — зачинатель и предтеча, но «зачинателю не дано быть завершителем, и предтеча должен умаляться», как гласит вердикт, сформулированный в самом начале вышеупомянутой статьи. С другой стороны, Ницше, прежде всего как автор «Рождения трагедии из духа музыки», входит в ивановский канон. И вот получается, что недостаточно каноничный сам по себе монолог Ганса Закса все же приобрел качество каноничности, будучи процитирован на весьма заметном месте в «Рождении трагедии»; de facto, разумеется, из самого Вагнера, но de jure как бы из Ницше, он мог легитимно перейти в тексты Вяч. Иванова. При действии таких хитроумных процедур, напоминающих отчасти дипломатический протокол, отчасти обряды седой старины, на однозначное воссоздание списка читанных поэтом-эрудитом авторов надеяться невозможно. Вот еще один пример: для того, чтобы чуть ли не в акте автоматического письма «услышать» и «записать» в 1908 г. предваряющее второй том «Сог ardens» стихотворение «Breve aevum separatum», будущему католику нужно было уже тогда основательно пропитаться средневековой поэзией латинских католических секвенций; однако, узнать что-нибудь о медиевистских штудиях Вяч. Иванова из прочих его текстов мудрено. Количество подобных примеров возможно было бы умножить.
Что касается тайн биографии поэта, связанных с его метафизическими интуициями, то они входят в компетенцию историка литературы лишь в качестве топики текстов самого Вяч. Иванова, и притом на равных правах со всякой иной топикой. Не попусти Господь исследователю вообразить себя духовидцем; не может быть ничего конфузнее. Но будет совсем неплохо, если мы, умствуя в меру наших сил, не перестанем чувствовать на себе его и взгляд, одновременно такой общительный — и такой непроницаемый.
Повторим еще раз: он хорошо от нас спрятался.
* * *
На десятилетие моложе Василия Розанова, сверстник Патриарха Тихона и Дмитрия Мережковского, а также вождя немецкого символизма Стефана Георге и великого Французского мистического поэта Клоделя, — Вяч. Иванов родился 16 февраля 1866 года.
«Вячеслав», нам трудно представить себе, до чего редкостно, прямо-таки экзотично звучало тогда крестильное имя поэта. Чуть ли не единственный Вячеслав на всю Poссию, как Брюсов — чуть ли не единственный Валерий. Жизнь советских десятилетий зло посмеялась над исключительностью этих имен, без всякой меры их тиражировав, наполнив страну под конец сталинской поры нескончаемыми Славами и Лерами. Нынче мода, кажется, схлынула, но нам до сих пор нужно сделать определенное усилие воображения, чтобы заново услышать имя на так, как его слышали сверстники.
Такое редкое имя обычно дается с умыслом; как говорят, «со значением». Так было и в этот раз. Сам поэт рассказывает о своей матери, Александре Дмитриевне:
«Она… отчасти славянофильствовала с оттенком либеральным, каковая приверженность идее славянства сказалась и в выборе моего имени».
Вячеслав — это имя чешского князя X в., за мученическую кончину причисленного к лику святых. Поэт, знавший толк в именословиях и сам, в общем, склонный «славянофильствовать с оттенком либеральным»(что, как было отмечено выше, нимало не противоречило в нем европеизму), не забывал о своем святом (еще задолго до своего формального присоединения к католицизму особо радуясь тому, что святой этот — «светильник двух Церквей», обретающийся и в православных, и в католических святцах):
Князь чешский, Вячеслав, святой мой покровитель,
Славянской ныне будь соборности зиждитель;
Светильник двух церквей, венцом твоим венчай
Свободу Чехии, и с нашей сочетай!
Как воссиял твой лик на княжеском совете,
И ужаснулись все о том внезапном свете,
Так воссияй очам расторгнутых племен
Небесным знаменьем о полноте времен!…
Итак, имя было выбрано матерью, дочерью чиновника, но внучкой сельского священника; ее девическая фамилия — Преображенская — красноречиво говорила о происхождении из самого что ни на есть коренного духовного сословия. Поэт, в котором не раз находили неожиданное сходство также и с русским батюшкой, не без удовольствия подчеркивал в себе наследственные черты:
…По женской
Я линии — Преображенский;
И благолепие люблю,
И православную кутью…
Как он объяснял впоследствии Моисею Альтману, таков аспект его личности, выраженный нормативно-русской фамилией, обыденность коей (правда, облагороженная старинным ударением на втором слоге) содержательно контрастирует с экзотикой имени. («Янахожу, что моя фамилия, в связи с моим "соборным" мировоззрением, мне весьма подходит. "Иванов" встречается среди всех наших сословий, оно всерусское, старинное и вместе с моим именем и отчеством звучит хорошо: Вячеслав — сын Иванов» [7] .)Кто любит кутью — и соборность, тому, очевидно, пристало зваться Ивановым.
Заметим, однако, что со всеми этими «русизмами» уже в судьбе Александры Дмитриевны совершенно мирно сочеталось веяние иноземного, а именно, германского духа. Малоимущая сирота была в молодости взята как «чтица» и почти что усыновлена колоритной немецкой семьей, собственных детей не имевшей. Встреча между русским православием и германским мистицизмом произошла словно бы в давно минувшие времена Александра Благословенного и Василия Андреевича Жуковского.«Немало лет, — вспоминал Вяч. Иванов, — прожила моя мать в благочестиво-чопорном, пиетистически-библейском доме престарелой и бездетной четы фон-Кеппенов; хозяин дома, брат известного академика, дерптский теолог, знаток еврейского языка и деятельный член Библейского общества, был в то же время главноуправляющим имений светлейшего князя Воронцова. По-немецки моя мать не научилась, — как не одолела никогда и отечественного правописания, — но стала любить и Библию, и Гёте, и Бетховена, и взлелеяла в душе идеал умственного трудолюбия и высокой образованности, который желала видеть непременно осуществленным в своем сыне» [8]. Кто знает по опыту власть подобных родительских пожеланий, которые, оставаясь по большей части невысказанными, исполняются куда непреложнее, чем прямые просьбы и приказания, — тот не дерзнет улыбнуться смиренной доле мечтательной стареющей девы, не выучившейся путем ни немецкому, ни родной орфографии, однако сумевшей соединить в своих мечтах истовое преемственное православие — с пиетистской чувствительностью, славянолюбие — с прочувствованным пиететом перед Гёте и Бетховеном, русскую мягкосердечность — с немецким императивом «умственного трудолюбия». («…Будучи беременной, — не без юмора рассказывал поэт Моисею Альтману, — она постоянно смотрела то на портрет Пушкина, то на висевший у нее на столе портрет некоего многознающего и трудолюбивого немца. И вот у меня есть кое-что отПушкина, а еще больше, пожалуй, от этого немца») [9] . И все это — в тонах «не нонешнего века»: и Германия, и Россия — по крайней мере романтической поры, если не раньше. В сущности, она подготовила очень много; оставалось — осуществить. Кому небезразличен Вяч. Иванов, должен, думая о ней, насторожиться: вот «констелляции», предопределившие судьбу поэта! Александре Дмитриевне, уже приготовившейся вековать в девицах, лишь за сорок довелось стать женой и матерью, сын был ее первым и последним ребенком, и она вложила в него поистине все, что могла.
«Ежедневно прочитывали мы, — вспоминал поэт, — вместе по главе из Евангелия. Толковать евангельские слова мать считала безвкусным, но подчас мы спорили о том, какое место красивее… Эстетическое переплеталось с религиозным и в наших маленьких паломничествах по обету пешком, летними вечерами, к Иверской или в Кремль, где мы с полным единодушием настроения предавались сладкому и жуткому очарованию полутемных, старинных соборов с их таинственными гробницами» [10] .
Разумеется, будущность поэта нагадала (по Псалтири) пятилетнему Вячеславу та же Александра Дмитриевна; это, можно сказать, входило все в то же невыговоренное повеление, вместе с упомянутыми «умственным трудолюбием» и «высокой образованностью». Духовная и душевная близость между матерью и сыном былаим теснее, что оба были, по сути дела, совершенно одинокими. Отец поэта, Иван Тихонович Иванов — землемер, позднее служащий Контрольной Палаты, человекболезненный, непрактичный, нелюдимый и замкнутый, сосредоточенный на своих мыслях, — скончался, когдаВячеславу было пять лет. (Между прочим, наречения имени своему младшему сыну Иван Тихонович не одобрял.) Его метания между миром сурового вольнодумства, в коем царили «Бюхнер, Молешотт и Штраус», и сердечной верой, к которой он пришел на смертном одре, воспеты в поэме «Младенчество»; но собеседником для Вячеслава он уже не успел быть. Из общения со сверстниками мальчик был исключен привитым матерью императивом культуры, столь характерным для разночинской психологии уединенного самосозидания (хотя, вроде бы, и не очень сообразным идее соборности): «Детскими книгами она учила меня пренебрегать, — свидетельствует Вяч. Иванов. — Прибавлю, что мать ревниво ограждала меня от частых сношений с детьми соседей, находя их дурно воспитанными, и приучала стыдиться детских игр» [11] '. Тихий заговор матери с сыном — в удалении от мира и некоторым образом против мира. И все это — на суровом фоне разночинской скудости. Разумеется, поклонница Бетховена и ревнительница «высокой образованности» ничего бы так не хотела для своего сына, как возможности обучаться музыке, «необходимейшему на ее взгляд искусству», однако это было уже роскошью недоступной. В гимназические годы Вячеславу приходилось, как это было обычно для гимназистов из бедных семей, непрерывно подрабатывать платными уроками, так что он, по собственному признанию, «имел свободу читать и думать только ночью».
Но школьное время — особый сюжет. Как и следовало ожидать, маменькин сынок, привыкший чураться шумных игр сверстников, «сделался сдержанным и образцовым по корректности воспитанником, а также обособившимся и вначале даже нелюбимым товарищем». На смену младенческому «Эдему» в райском общении с| матерью приходит вежливое отщепенство, на смену детской вере — атеизм и революционный пыл. Первое сознательное переживание истории в жизни отрока, как уже упоминалось выше, — убийство Александра II 1 марта 1881 г. «Все проклинали цареубийц…. — вспоминал Вяч. Иванов. — Я терзался в душе, а порой и открыто гневался, слыша поносимыми имена людей, которые уже были в моих глазах героями и мучениками». Идиллия резко сменяется преждевременно взрослой жизнью, полной «сурового труженичества», но и затаенности в крамольных мыслях, приучающей гимназиста Иванова также и к холодноватому, осторожному расчету, о коем без утаек повествует все то же «Автобиографическое письмо»:
«Те же ученические сочинения, порой на скользкие для меня темы, возбуждали удивление друзей, посвященных в тайну моего мировоззрения, дипломатическою ловкостью, с которою я умел в них одновременно не выдавать и не предавать себя». (Это уже какой-то почти позднесоветский опыт, до странности близкий моему поколению.) От матери вышеназванная тайна мировоззрения утаена не была, но славянофильство Александры Дмитриевны не могло принять нигилизма: «в нашей тесной дружбе стала обоими мучительно ощущаться глубокая трещина». Мировоззренческие проблемы заставляют подростка-атеиста помышлять о самоубийстве, однако, что характерно, отнюдь не истребляют в нем мистических интересов. «Страсть к Достоевскому питалa это мистическое влечение, которое я искал примирить с философским отрицанием религии». Еще в гимназии возникает поэтический опыт об искушении Христа в пустыне (как может нам напомнить хотя бы картина Крамского, тема эта была дорога нашей безверной, нопо-своему любившей Христов образ интеллигенции тех десятилетий [12]). Герой юного поэта выдерживает испытание, дабы приступить к проповеди атеистического гуманизма в духе Фейербаха: «Да будет горд и волен человек»… Так сказать, ницшеанство avant la lettre.
Окончание гимназии и поступление на историко-философский факультет Московского университета, где Иванов тотчас же обратил на себя благосклонное внимание профессоров исключительными способностями к древним языкам, делает его самоощущение более светлым; он, наконец, при деле. Порвать с усвоенным мировоззрением не так легко, но от психологической атмосферы отроческого нигилизма остается все меньше. Поэма о еврейском мальчике, горящем запретной для него, но непреодолимо сильной любовью ко Христу, прозрачно маскирует чувства юноши, присягнувшему атеистическим прописям, однако рвущегося к вере. Тон несколько напоминает нарративные стихи Гейне в чувствительной русско-интеллигентской транскрипции. Еще жив был старый Аполлон Майков…
Но тот же юноша пишет стихотворение, в котором мы, сквозь легкий налет наивности, который загостится, по правде говоря, еще долго, узнаем настоящий тон и настоящую тему Вяч. Иванова; О. А. Шор-Дешарт датировала его 1882 г., следовательно, порой еще гимназической; Р. Е. Помирчий гадательно предложил 1885 г. Поэт решился через много лет включить его в «канон» второго своего сборника стихов «Прозрачность». На его лексике еще лежит неизгладимая печать времени, однако в нем есть триумфальный и неожиданный уход и от привычных гражданских скорбей, и от сгущавшейся в воздухе конца века романсово-надсоновской плаксивости. Это бодрая отрешенность поэта, переживающего выход и за пределы злобы дня, и за пределы своего «я»(«Радости чуждой, Нуждой печали / / Сердце послушно…»).
Казалось бы — отсюда рукой подать до того Вячеслава, который явится восхищенной среде символистов. Но нет, путь вел в обход — и через время, и, что особенно важно, через пространство.
Революционный героизм в террористическом народовольческом стиле становился для юноши, чьему темпераменту на редкость мало соответствовал, все более проблематичным; в одном из стихотворных опытов той поры говорится даже о «слепой борьбе». Однако же моральная ситуация начинающего жить человека была непростой. Как-никак, в отрочестве он успел взять на себя некое моральное обязательство перед революцией. «Дальнейшее о политическое бездействие… представлялось мне нравственною невозможностью. Я должен был броситься в революционную деятельность; но я ей уже не верил». Юноша с меньшим чувством ответственности просто пренебрег бы проблемой; более простосердечный, напротив, согнулся бы под ее бременем и принялся уныло приносить без веры посильные жертвы кумиру революции. Примеров и первого, и второго было предостаточно. Но Вячеслав не был бы собой, если бы не стал искать выхода за пределы ложного выбора между служением революции — и жизнью, "как у всех", а потому ренегатством. Ведь это был выбор специфически русский; значит, нужно было покинуть пределы России. Хотя бы для того, чтобы оглядеться. Это называлось — ехать учиться истории за границу. Но это было — бегством от политической дилеммы, навязываемой российской действительностью, и постольку неким подобием эмиграции. Любопытно, до чего конец жизни Вяч. Иванова будет в этом отношении похож на начало…
Разумеется, не все пути на Запад были приемлемы с точки зрения гражданственных табу общественности. Так, он отказался от чрезвычайно заманчивой для него возможности поехать на казенные деньги на семинар по классической филологии в Лейпциг, ибо, во-первых, быть стипендиатом означало принимать помощь от царского режима, он же предпочел в бытность за границей зарабатывать на жизнь корреспондентской и секретарской работой [13]; во-вторых, классическая филология имела в России репутацию занятия крайне ретроградного, между тем как история, хотя бы даже и древняя, представлялась непосредственно связанной с общественными проблемами.
Перед своим отъездом в Германию двадцатилетний Иванов женился на сестре нежно любимого друга своей юности Алеши Дмитриевского — Дарье Дмитриевской, также намеревавшейся учиться за границей. Естественно, этот брак вызывал у Александры Дмитриевны сомнения — впрочем, со временем вполне оправдавшиеся. Среди ранних стихов Вяч. Иванова есть никогда не печатавшиеся, очень домашние по тону, улыбчиво-чувствительные или невинно-чувственные стихи, обращенные к первой спутнице его жизни; на его позднейшую поэзию они, пожалуй, максимально не похожи. Как кажется, дружба с Алешей была с самого начала не в пример горячее, нежели любовь к Дарье. Во всяком случае, не этой хрупкой молодой женщине с тяжкой психической наследственностью дано было навсегда разомкнуть природную скованность этого историка Иванова, снять его, как выражаются наши современники, неконтактность, выманить его из бездн внутреннего уединения, чтобы явить изумленному миру «Вячеслава Великолепного». Увы, для нее такая задача была непосильна.
Между тем весной 1888 года у супругов родилась дочь, получившая имя Александра, — надо полагать, в честь матери поэта. (Ей предстояла жизнь печальная и недолгая: родители разойдутся, она будет жить в Харькове с матерью, явится к отцу на «Башню», но будет, выказывая очевидные приметы хронической депрессии, мучительно дичиться многолюдства, а после умрет от мозгового заболевания.) Но вот Ивановы — в берлинской мансарде. Не будем повторять вещей общеизвестных: что научным ментором Вячеслава стал (наряду с почтенным Отто Гиршфельдом, осуществлявшим непосредственное руководство) сам великий Теодор Моммзен, не только первый по масштабу исследователь римской политической истории, но и блестящий стилист, заслуживший, между прочим, Нобелевскую премию по литературе [14]; что будущий поэт написал по-латыни диссертацию на довольно прозаическую тему, а именно, о налоговых обществах Римского народа («De societatibus vectigalium publicorum populi Romani»), и прочая. В этой связи ограничимся замечанием, что разночинское трудолюбие и способность к языкам, присущие Вяч. Иванову со школьных лет, были существенно развиты немецкой выучкой [15]; то владение древними и новыми языками, то свободное профессиональное проникновение в исторические и филологические «дебри», которое мы (чада иной эпохи, учившиеся, по слову Пушкина, чему-нибудь и как-нибудь)готовы предполагать чуть ли не у каждого сына Серебряного века, полусознательно имея в виду употребить почтительную гиперболу, — у него были налицо сполна и без всяких гипербол. Потому он решительно не мог бы ни перепутать по случайности герметику с герменевтикой, как Александр Блок [16], ни зачислить французского эпикурейца XVII века Гассенди в ряды средневековых арабских ученых, как Андрей Белый [17], ни подставить ненароком на место латинского lugere («плакать») немецкое lügen («лгать»), как сделал однажды гордый своей гимназической латынью Валерий Брюсов (переведший строку Катулла «Lugete, о Veneres Cupidinesque…» — «Лжете вы, Купидоны и Венеры!» [18]). Стихи и статьи Вяч. Иванова, написанные по-гречески, по-латыни, по-немецки, по-французски и по-итальянски, не требуют в языковом аспекте ни малейшего снисхождения. Но об этом достаточно. Обратим внимание на некоторые нюансы чисто биографического свойства.
Во-первых, достаточно необычна продолжительность времени, в решающие для человеческого становления годы прожитого фактически сплошь за границей (Германия, Париж, Италия, позднее Англия и Женева), лишь с краткими визитами в Россию. Позднее, в разгар Серебряного века, фоном которого была, между прочим, очередная попытка преодолеть изоляционизм русской культуры, молодые поэты порой проводят свои Lehrjahre (годы учения) на Западе; однако же ни Париж Волошина, ни Марбург Пастернака даже отдаленно не сопоставимы по своей длительности с ивановскими Lehrjahre. Нам предстоит увидеть, что для столь долгого отсутствия на родине были также и вполне конкретные биографические причины, хотя к ним, наверное, сводится далеко не все. Но сейчас мы хотели бы подчеркнуть самый факт, абстрагируясь от его разъяснений. Год загодом, два десятилетия без малого — в молодости срок невероятно важный! — прожиты хотя и не в эмиграции, однако в обстоятельствах, более обычных для эмиграции: в «мансардах» Европы, гражданином ее «вольных скворешниц», в иноязычной среде, общение с которой становится привычкой.
(Будничная, повседневная трансформация самоощущения идет в каком-то смысле даже интенсивнее, ибо нормальному эмигранту свойственно по возможности держаться «своей» же эмигрантской среды, между тем как нормальнойсредой для будущего поэта, «эмигрировавшего» имении от среды, были немецкие профессоры и студиозусы, позднее — ragazzi Capitolini, сиречь молодые археологи со всего света в Риме, и лишь наряду с ними — соотечественники на чужбине, например, историк И. М. Гревс.) Эту длинную череду лет трудно вообразить себе конкретно и наглядно; а вообразить хотелось бы, потому что истоки «беспочвенно-запредельного» начала в личности Вяч. Иванова угадываются именно здесь.
Во-вторых, общение с Моммзеном принуждает остро амбивалентно перечувствовать проблематику «германства» (и косвенно — Запада вообще, что выразилось в «Парижских эпиграммах» 1891 г.) в контрасте с Россией. Как бы далеко ни отошел Вяч. Иванов от революционных страстей своего отрочества, определенная мера мирного анархизма остается для него подразумеваемой нормой; недаром он провозгласит себя в пору альманаха «Факелы» (1906 г.) — «мистическим анархистом». (Позволительно признать этот духовно смутный год отнюдь не вершиной его религиозно-философского развития; однако мирно-анархическое начало, не исключаемое славянофильской соборностью «с оттенком либеральным», но ею, как мы попытаемся показать чуть ниже, предполагаемое, есть органическая константа всего его пути.) В этом пункте гражданин мира и ученик Саиса оставался достаточно русским, более того, русским интеллигентом. «С недоумением наблюдал я, что государственность может служить источником высочайшего пафоса даже для столь свободного и свободолюбивого человека, как Моммзен». Особенным шоком был для него приход к власти в 1888 г. последнего, рокового кайзера Прусской империи Вильгельма II и его самовластный разрыв с многоопытным (и, между прочим, ориентированным на мир с Россией) Бисмарком, который принужден был в 1890 г. уйти в отставку. В первый, но далеко не в последний раз проявляя перед лицом актуальной истории довольно поразительную интуицию, молодой Вячеслав, как он сам рассказывал впоследствии в «Автобиографическом письме С. А. Венгерову», «написал сонет, где уподоблял молодого императора Фаэтону, самонадеянная дерзость которого должна повлечь за собою мировой пожар и гибель его виновника». Сонет этот «Могучий дух в могуществе уверен…», никогда не включавшийся поэтом в состав его публикаций и датированный 5 апреля 1890 г., сохранился. Он завершается словами:
Воск крыльев таял в небе; слава трона
Пылающей служила колесницей
Для дерзости безумной Фаэтона.
Еще целых 24 года оставалось до начала I мировой войны, когда Вильгельм, завершая начатое в те дни, подожжет мировой пожар, в котором сгорит и его собственная Фаэтонова колесница — созданная Бисмарком Прусская империя. А будущий фюрер, так тот еще и вовсе был годовалым младенцем. Тем интереснее профетический ужас Вяч. Иванова, унаследовавшего от матери глубокий пиэтет перед немецкой культурой, когда он видел вокруг себя «самодовольный и все же ненасыщенный национализм последнего чекана, который кишел и шипел вокругклубами крупных и мелких змей». Заверение Моммзена: «мы не так злы», — не могло успокоить ни его чаяний грядущей распри между Германией и его отечеством, ни его тревоги о деградации немецкого духа, для которого «источником высочайшего пафоса» стала государственность. И в Париже ему довелось не без шока пережить, насколько тема свободы («Liberte, Egalite, Fraternite») интегрирована реальностью государства. «Guillotin учил нас праву!»— этот возглас напоминает столькие сердитые пассажи у Достоевского, однако в контексте стихотворения их отнюдь не повторяет, поскольку уже соотнесен с тем, что будет именоваться ивановским «дионисийством».
Дело в том, что именно за границей философические чтения Вяч. Иванова энергично устремляются по двум руслам, довольно контрастным, однако в перспективе его мысли образующим единство: он зачитывается, ища выхода из противоестественного для его натуры атеизма, Хомяковым и Владимиром Соловьевым, — и ему кружит голову только-только входящий в известность Фридрих Ницше. В чем общее между русскими учителями христианской соборности — и неистовым немецким провозвестником бытия «по ту сторону добра и зла»?Для начала именно в том, что обе стороны предлагали радикальную альтернативу тому «праву», учителем коего был Гильотен, тому самодовольному культу государственности, который шокировал на Западе русских скитальцев со времен Герцена. Ницше, как известно, назвал государствосамым холодным из чудовищ; но ведь кротчайшие ранние славянофилы, склонявшиеся пред соборностью (и даже пред отцовским, т. е. как бы семейным авторитетом монарха), питали тихую, но очень глубокую нелюбовь к государству как таковому, т. е. ко всему институциональному и бюрократическому (эта нелюбовь была впоследствии живо акцентирована Бердяевым). Для них славянская традиция соборности была именно альтернативой западному пафосу властного порядка; даже простосердечная Александра Дмитриевна должна была по-своему чувствовать эту сторону дела, коль скоро она славянофильствовала именно «с оттенком либеральным». С другой стороны, ведь и германец Ницше, наскучив, как известно, законопослушным пылом послебисмарковских компатриотов, частенько обращал ностальгические взоры в сторону вольного славянства, тешась домыслами о своем якобы польском происхождении. Так что сердце Вяч. Иванова могло ощущать себя в единомыслии одновременно и с Ницше, и, хотя бы отчасти, с Хомяковым, когда оно бросало Западу вызов от имени русского «скифства»:
В нас заложена алчба
Вам неведомой свободы:
Ваши веки — только годы,
Где заносят непогоды
Безымянные гроба.
Возвращаясь к Ницше, заметим, что он являл собой для трудолюбивого, однако призванного к иным трудам исследователя античной налоговой системы нечто вроде личного примера. Ведь и он был сначала филологом и прилежно писал (тоже по-латыни) диссертацию «De Laertii Diogenis fontibus» («Об источниках Диогена Лаэртского»), но вскоре расстался с филологическим добронравием. От академического изучения текстов филолог-расстрига Ницше перешел к рискованным попыткам интуитивно пережить и описать «дух музыки»— первостихию, лежащую, по его убеждению, в самой основе эллинской культуры как целостного феномена. Но что такое «дух музыки»? Ницше дает ему греческое имя — Дионис. Стало быть, бог вина и загробного мира, пляски и слез, ночи и того, что немецкий психолог романтической поры Готхильф Генрих Шуберт назвал «ночной стороной души», Nachtseite der Seele; бог исступления, в коем личность забывает о границах между собою и миром, между ликованием и скорбью — а также между дозволенным и недозволенным.
В плане чисто личном сильнейшая эмоциональная встряска, спровоцированная зажигательным красноречием базельского философа, в сочетании с некоторыми другими событиями освободила будущего поэта от его духовной робости и душевной скованности, прямо-таки насильно принудив его перестать прятаться от собственного призвания за щит академических занятий.
Время, однако, перейти к тому, что мы только что назвали «другими событиями». Летом 1893 г. Вяч. Иванов встретил в Риме, городе своей судьбы, молодую русскую женщину, своевольную и великодушную, сильную и тревожную, наделенную неистовой, трудной витальностью, которая наилучшим образом воплощала и ницшевскую страсть к жизни, и ту алчбу неведомой Западу свободы, каковую молодой поэт восславил в упомянутой выше парижской эпиграмме как особое качество славянства. Она не всякому понравилась бы, но и очень злой глаз не сыскал бы в ней ничего мелкого. Сказать, что ее душевный склад заставляет вспомнить героинь Достоевского, — несносная банальность, без которой, однако, нелегко обойтись. В немецком пансионе, где она училась, ее прозвали «Der russische Teufel»— «русский черт». Она не была разночинкой, как Вячеслав: в ней текла кровь сербских князей Зиновичей — и того самого Аннибала, Арапа Петра Великого и пушкинского пращура; звали ее Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал. В ту пору она, как столь многие потомки древних родов, трудилась на поприще эсерского революционерства, от чего ее увела встреча с Ивановым и родившаяся в этой встрече мечта о революции духа — та мечта, без коей русский символизм решительно непредставим. Ей самой суждено было стать одним из персонажей Серебряного века, оценившего ее «свободолюбие»(Бердяев), ее «прямодушие и отзывчивость»(Чулков); ее собственное литературное творчество вызывало когда-то разгоряченные споры; но в этой статье речь о ней пойдет лишь как о протагонистке биографии Иванова и центральном образе его поэзии. Много лет спустя, в 1908 г., были написаны стихи:
Наш первый хмель, преступный
хмель свободы
Могильный Колизей
Благословил: там хищной и мятежной
Рекой смесились воды
Двух рухнувших страстей…
Как он был женатым человеком и отцом, она была замужней женщиной и матерью троих детей. Оба, по-видимому, предпринимали довольно нешуточные усилия, чтобы справиться со своей страстью. От их первой встречи до марта 1895 г., когда они решились кинуться друг другу в объятья, прошло, как-никак, два года без малого.
Мы не знаем и никогда не узнаем в точности, какими психологическими кризисами страсть эта была подготовлена. Поэзия Вяч. Иванова рано исключает навязчиво-откровенные жалобы. Может быть, только два стихотворения, вошедшие впоследствии в «Кормчие звезды» и стоящие в этом сборнике рядом — «Лунные розы» и особенно «Вожатый» — заставляют задуматься о том, что неистощимо общительный и неутомимо жизнелюбивый впоследствии сын нелюдимого землемера Ивана Тихоновича Иванова мог изначально в какой-то степени унаследовать предрасположение своего отца к психическим депрессиям, к самооощущению живого мертвеца, насильно выведенного в жизнь, к людям, как на поругание:
Слепит меня день веселый
Пугает шум градской,
И ранит насмешкой тяжелой
Пытливый взор людской.
Вожатый! Сударь и платы,
И повязи рук и главы —
Бесславней, чем цепи кольчаты,
В устах шепотливой молвы! /…/
(Слово «сударь», здесь, разумеется, церковнославянское, с ударением на втором слоге, и означает ткань, некогда возлагавшуюся на голову покойнику и упоминаемую в рассказе Евангелия от Иоанна 20, 7 о гробнице Христа.)
Живой мертвец, которого мучительно слепит сияние солнца, — до чего далек от этого поэт, каким мы его знаем; а ведь стихи, похоже, свидетельствуют о какой-то невыдуманной проблеме, с которой необходимо былосправиться [19]. Но то, о чем мы говорим, только по недоразумению может быть воспринято читателем как чисто личная, индивидуальная проблема одной биографии — трудное преодоление невеселой наследственности. На самом деле, однако, самое интимное и самое индивидуальное осуществляло себя отнюдь не в неисторической пустоте, но в контексте истории поколений, этот контекст выражая и с ним неразличимо переплетаясь. Встреча Вячеслава и Лидии только и может быть понята на фоне того кризиса русской культуры — не просто дисциплин культурного творчества, каковы искусства или словесность, но культуры в целом как умения жить, — который выразился в надсоновщине и готовил приход символизма. Вспомним Дмитрия Мережковского и Зинаиду Гиппиус: это взаимное чувство, мотивация которого возможна лишь там, где все наличные данности жизни обессмысленны перед лицом невнятно ощущаемого нового, но этого нового еще нет, и душа навсегда выбирает другую душу непременно и за то, что та — не такая, как все, и несет в себе то же предчувствие. «Мы» — это те люди, которые прошли, или почти прошли, долгий и тяжкий путь уединения, отъединенности от всех, крайнего индивидуализма; спускались в "подполье", в самые темные коридоры, — и без всякого расчета, потому что без надежды из него выбраться», — писалаГиппиус [20]. Символистские браки вообще имеют в себе нечто общее, типическое, вопреки резкому несходству индивидуальных психологии. Например, совершенно невозможно представить себе в символистской среде брак поэта, типологически схожий с пушкинским браком: гений — и «просто женщина», стоящая вне словесно-мыслительной культуры, вне «проблем» и «идей», принципиально не предназначенная к роли равноправной собеседницы. Не будем забывать, что одной из предпосылок эпохи символизма был мощный, подготовленный, конечно, еще в пору «нигилистов», но ставший реальностью лишь теперь подъем присутствия женщины в культурной работе: множащиеся женские курсы были только внешним выражением факта, по сути своей куда более глубокого. Отчасти эта черта (в числе других!) роднит русский символизм с немецкой романтикой, также явившейся ответом на антропологический кризис европейского человечества. Ту эпоху ведь тоже не вообразить без Доротеи Шлегель, без Беттины Брентано, а равно и без мысли Бахофена, сконструировавшей видение матриархата («Mutterrecht»). В атмосфере, порождаемой такими умственными движениями, как немецкая романтика и русский символизм, женщины не хотят быть толькоженщинами, как, в общем, и мужчинам не очень импонирует идеал мужественности в его наивном традиционном варианте [21]. Прошедшее со времен немецких романтиков время делало антропологические сдвиги, ожидающие человечество, более очевидными. В 1908 г. Вяч. Иванов, намного упреждая нынешних феминистов и феминисток, скажет в одной публичной лекции:
«Дело идет, с одной стороны, о реализации самоопределения женщины, как равноправного члена в обществе и государстве; с другой — о восстановлении в должной полноте женского достоинства, о правовом осуществлении космического назначения женщины, как таковой, в жизни человечества. […]Неудивительно, что чем в отдаленнейшую восходим мы эпоху, тем величавее рисуется нам образ вещуньи коренных […] тайн бытия. […] В переживаемую нами эпоху мы застаем женщину в начальных стадиях нового возвышения, которое, обеспечив за нею общественное равноправие и все внешние возможности свободного соревнования с мужчиной в материальной и духовной жизни, может или как бы смешать ее с другим полом […], или же открыть ей, в самом равноправии, пути ее чисто женского самоутверждения, окончательно раскрывая в человечестве идею полов, поскольку они различествуют в представляемых обоими энергиях своеобразного мировосприятия и творчества».
«Вещунья коренных тайн бытия»— именно так видел поэт свою возлюбленную [22]. Встреча с ней была не просто любовным счастьем, «золотым счастием», столь мажорно воспетым в стихотворении под таким заглавием (март 1895 г., вошло в сборник «Прозрачность»), но и разделением дотоле неразделенных, загонявших в одиночество чаяний, а потому выходом из психологического кризиса, как отмечалось выше, весьма личного и в то же время связанного с самоопределением стоявшей у дверей культурной формации. Впоследствии Вяч. Иванов будет и в прозе, и в стихах говорить о том, что случилось тогда, как об обретении своей идентичности и о выходе из «подполья» к общению
…Я начал, помню, жить
В ночь лунную, в пещерах Колизея,
И долго жил той жизнию, живой
Впервые…
И еще выразительнее:
Я, затворник немоты,
Слову «ты»
Научился — поцелуем.
Отныне Вяч. Иванову предстояло становиться виртуозом общения, собеседником par excellence. Таким он запомнился современникам. И лишь когда мы вдумываемся в его скупые и сдержанные лирические признания, нет-нет, да и придет на ум: не было ли в его неутомимой, почти чрезмерной общительности позднейших лет — некоей психологически понятной компенсации за годы «немоты»? Сдержанный ужас оглядки на свое «подполье» ощущается в его словах, приводимых в «Воспоминаниях» его дочери Лидии и обращенных к ней же:
«Слушай, что бы у тебя в жизни ни случилось, смотри! не допусти, чтобы у тебя зародилось подполье. Лучше сделай какую угодно глупость, но только не иди никогда в подполье!» [23] .
Между тем счастье поэта оставалось беззаконным. У беззаконности этой были различные аспекты. В плане человеческом он глубоко ощущал свою вину перед первой женой и пронес это чувство вины через десятилетия. В 1921 г., четверть века спустя, он будет говорить юному тогда Моисею Альтману: «Я с Дмитриевской развелся, это было очень сурово и жестоко, но я тогда, видите ли, был ницшеанцем. […] Теперь я это воспринимаю как убийство, ибо жизнь Дмитриевской оказалась совершенно разбитой». Образы мужского предательства, обрекающего женщину на помрачение ума, как Фауст довел Гретхен до сумасшествия и гибели, появляются порой в его позднейших стихах (коих не следует понимать уж чересчур [авто]биографически [24], — но определенной чуткости также и к биографическому своему фону они все-таки требуют):
…Есть, Фауст, казнь:
В очах возлюбленной прочесть
Не гнев, не суд, не месть, —
Но чуждый блеск — безумья весть —
И дикую боязнь…
В плане же социальном предстояло бракоразводное дело в стиле прошлого столетия, и даже не одно, а два. Если Дарья Михайловна, верная этическим принципам русской интеллигенции, согласилась на развод незамедлительно, Лидия Дмитриевна была разведена со своим первым мужем К. С. Шварсалоном, требовавшим передачи детей ему, лишь в 1899 г. Это означало, что у четы, оказавшейся за чертою общественных норм, была еще одна, дополнительная, причина медлить за границей, постоянно меняя место жительства — Франция, Италия, Англия, Швейцария…
Между тем счастье поэта — что и говорить, грешное, однако же выведшее «затворника немоты» из его затвора к мистике общения — постепенно истребляет то, что еще оставалось от его неверия. В автобиографическом письме С. А. Венгерову Вяч. Иванов вспоминал: «Друг через друга нашли мы — каждый себя, и более, чем только себя: я бы сказал, мы обрели Бога». (Других людей к вере приводит страдание; его привело счастье. Если мы этого не поймем, мы ничего не поймем в логике его жизненного пути.) Однако желанию превратить отношения с Зиновьевой-Аннибал в церковный брак препятствовало суровое решение российской консистории. В сходной ситуации оказался, как памятно всем, и старший ровно на десятилетие современник Вяч. Иванова — Василий Розанов. Но дальше все сложилось по-разному. В обоих случаях совесть не была связана приговором консистории, и это можно понять: в конце концов, эту бюрократическую институцию мало кому хотелось отождествлять с Церковью. Однако Розанов и тем паче его вторая, поначалу незаконная жена не были «беспочвенно запредельны»: все переживалось внутри психологически безысходно закрытого российского пространства, с очень подлинной болью, но ведь и с растравой, — как бы сделать самому же себе побольнее, помучительнее. Эта стыдная мука очень по-русски выросла в центральную литературную тему, открывая возможность писательской самореализации.
Тяжба с консисторией, размашисто перерастающая в тяжбу за достоинство «пола» с христианством как верой «людей лунного света», да что там — уж прямо с Самим Христом, ни больше, ни меньше! — подарила незадачливому, «подпольному» экс-провинциалу его темы, его чувство державной власти над словом и над читателем, уготовала ему место так близко к средоточию становящейся новой литературы. Странно подумать, насколько же иначе все было у Вяч. Иванова. Российская консистория, хотя бы и как предмет ненависти, — ах, до чего, до чего все это было далеко от мира вольных скворешниц! Дождавшись развода от К. С. Шварсалона, Вяч. Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал отправились в греческую церковь в итальянском городе Ливорно, где священник не спрашивал желающих обвенчаться, что по этому поводу говорит консистория, — «и где по греческому обычаю им, вместо русских брачных венцов, надели на головы обручи из виноградных лоз, обмотанных белоснежной шерстью ягненка» (О. А. Шор-Дешарт [25]). Эта древняя символика, восходящая к дионисийским культам, купно с греческим языком и греческими напевами богослужения, была для поэта-филэллина, разумеется, дополнительным, нежданным подарком. (Кто хочет, может подивиться, что грешник еще и получил подарок от Провидения, пути Коего неисповедимы; что бывает и так, многие из нас, грешников, могут знать по себе.)
С российской точки зрения это, разумеется, решительно ничего не улаживало; скитания продолжались — но они уже давно были привычным стилем жизни. Вместе с четой странствовали дети Лидии Дмитриевны от первого мужа, каковой все грозился отобрать их у матери. В том же 1896 году, в котором скончалась в Москве мать поэта, огорченно догадывавшаяся о скрываемом от нее разводе сына, и в котором поэт окончательно отказался от немецкой университетской карьеры, не став сдавать экзамена, потребного для защиты докторской диссертации, — родилась в Париже дочь Вяч. Иванова и Лидии Дмитриевны, которую назвали именем ее матери, «Лидия маленькая» (Лидия Вячеславовна Иванова, 1896–1985). Затем явилась на свет и вторая дочь, Еленушка, скончавшаяся шести недель от роду.
И вот поэту уже за тридцать, а он все еще социально — никто и ничто. Немецким профессором, уже написав свою латинскую диссертацию, он так и не стал, российским литератором — покуда и того менее. Что же, хотя биография Вячеслава имеет черты уникальные, хотя бы, как отмечалось выше, по долговременности пребывания вдали от России, — однако само по себе позднее становление, как кажется, довольно характерно для его сверстников. Это позже, когда символистская парадигма будет в принципе разработана, придет время для поэтов вроде Рильке или Блока, уже в ранней молодости уверенно выходящих на свой путь, или даже для диковинных случаев вроде Гуго фон Гофмансталя, который, как известно, триумфально вошел в литературную жизнь шестнадцатилетним гимназистом (а стихотворение «Vorfrühling», встречающееся до сих пор во всех пристойных антологиях австрийской лирики, написал восемнадцатилетним). Однако даже Мережковский и Бальмонт, сразу же устремившиеся в литературу, долго отдавали дань общенадсоновской манере и догадались о своем пути в символизме, собственно, лишь годам к тридцати; Федор Сологуб, убив молодость на учительство, по-настоящему вошел в литературу сильно за тридцать; тот же Розанов, после учительства и никем не замеченного трактата «О понимании», нашел своею тему, свою манеру и своего читателя — под сорок, если не позже; особенно поразительна, конечно, судьба Иннокентия Анненского, напечатавшего свой первый сборник, да еще под псевдонимом, под пятьдесят, на исходе жизни! Недаром же Зинаида Гиппиус высказала за все свое поколение цитированные выше слова о пройденном людьми ее типа «долгом и тяжком пути уединения». Человеческое уединение перестало мучить Вяч. Иванова после встречи с Лидией. Но уединение литературное оставалось.
Между тем бедная Дарья Михайловна, вроде бы выброшенная уже из сюжета судьбы своего бывшего мужа, сумела в последний раз сделать для него большое доброе дело. Без его ведома она отправилась с его стихами к тому единственному из еще живших на свете старших, кто давно уже прежде всякого русского символизма явил в себе прообраз, архетип символиста, кто бродил по Москве таким же беспочвенным и запредельным, каким только мог быть на своей чужбине еще неведомый миру Вячеслав: к Владимиру Соловьеву. (Владимир Сергеевич в первый раз читает стихи из будущих «Кормчих звезд», — ах, это хотелось бы представить себе в подробностях!…) Она повстречались с ним в Петербурге, в гостинице «Angleterre», и вскоре могла сообщить Вячеславу письмом хорошие новости:
«Поздравляю тебя с gloria!
Только что вернулась от Соловьева и пишу тебе под свежим впечатлением […]…Он пригласил сесть и сказал: "Стихи великолепные, я их читал с большим удовольствием, в них столько содержания[…] Талант есть, гораздо сильнее, несравненно, чем у Фруга, у Бальмонта, и, главное, оригинальность"» [26].
«Стех пор, в течение нескольких лет, — рассказывает Вяч. Иванов в автобиографическом письме С. А. Венгерову. — я имел с ним важные для меня свидания, всякий раз, как приезжал в Россию. Он был и покровителем моей музы, и исповедником моего сердца. В последний раз я виделся с ним месяца за два до его кончины и принял его благословение дать своей первой книге заглавие: "Кормчие звезды"».
А в записи разговора с М.Альтманом от 5 октября 1921 г. мы читаем:
«Я с великим восторгом принял высокую оценку Соловьева и в свой ближайший приезд в Петербург познакомился с ним. С тех пор каждый год, приезжая из-за границы в Петербург, я с ним встречался. Когда я готовился к изданию своего первого сборника стихов, он собирался написать обо мне большую статью. Но этому не суждено было исполниться. Последний раз я видел его в 1900 году, за полтора месяца до его смерти. Мы с ним ехали в фаэтоне, и я ему сказал, что нашел название для своего сборника: "Кормчие звезды". ""Кормчие звезды", — сказал он, — сразу видно, что автор филолог; сравни: "Кормчие книги" — " Кормчие звезды", — повторил он, — это хорошо". Затем он слез с фаэтона и исчез в толпе. Больше я его уж никогда не видел» [27] .
К сожалению, мы мало что знаем сверх этого. Некоторые частные эпизоды, связанные с общением между Владимиром Соловьевым и Вяч. Ивановым, со слов последнего поведаны Ольгой Шор-Дешарт. Она же приводит любопытное письмо Лидии Дмитриевны Вячеславу еще от 15/27 июля 1893 г., то есть после первой, еще «невинной» римской встречи, в словах почти гневных выражающее тревогу, не приведет ли внутренний итинерарий уже небезразличного ей человека — к церковной вере:
«Вдругмне стало страшно, чтобы Вы когда-нибудь не перешли грань, за которою царит узкая доктрина, грубо материальная концепция Божества и ненавистное мне учение о награждении добродетели и наказании порока. Моя душа просит веры, и все существо мое трепещет, когда я решаюсь открыто высказать другому и выслушать его верованье, но никогда не подам я руку патентованным "христианам", никогда не помирюсь с пошлою и неблагородною церковью» [28] .
Однако ж образ ее мыслей в этом пункте изменился. Увенчанием и одновременно финальным аккордом общения Вяч. Иванова с Владимиром Соловьевым стала поездка четы под конец июля 1900 г. в Киево-Печерскую Лавру для подготовки к причастию, т. н. говения, и самого причащения. Впервые с ранних детских лет этот верховный акт христианской религиозной жизни совершался ими всерьез и по убеждению. (Нужно ли напоминать, что жизнь в Российской империи предполагала прискорбные ситуации, когда человек нецерковного образа мыслей просто вынужден бывал «говеть», увы, без всякого искреннего чувства — например, ради справки, представляемойв гимназию, или перед браковенчанием?) Собственно, Соловьев и не знал об этом ответственном поступке; но чета была убеждена, что действует как бы в послушании ему. Вячеслав и Лидия поспешили известить философа о происшедшем телеграммой. Неизвестно, успел ли он телеграмму прочесть: 31 июля 1900 г. Владимир Соловьев скончался. В 1944 г. Вяч. Иванов будет поминать его стихами:
Четыредесять и четыре
В войне, гражданских смутах, мире
Промчалось года с дня того,
Как над Невой мы с ним простились,
И вскоре в Киеве постились,
Два богомольца, за него,
В церковном послушаньи русском
Утверждены. У друга, в Узком,
Меж тем встречал он смертный час.
Вмещен был узкою могилой,
Кто мыслию ширококрылой
Вмещал Софию. Он угас;
Но все рука его святая,
И смертию не отнятая,
Вела, благословляя, нас.
В отношении историко-литературном, или, шире, историко-культурном, духовная связь с Соловьевым впоследствии локализовала Вяч. Иванова на панораме русского символизма вместе с намного младшими Александром Блоком и Андреем Белым как «соловьевцев»(иногда именуемых «младшими» символистами, каковой эпитет звучит в приложении к Вячеславу довольно причудливо).
«…Оба Соловьевым / / Таинственно мы крещены», — писал Иванов Блоку в 1912 г. Но в плане личной человеческой судьбы паломничество в Киево-Печерскую Лавру заставляет поставить довольно сложный вопрос: о христианском обращении поэта, о хронологических сроках и — вопрос почти невозможный по своему устрашающе интимному характеру — о внутренних свойствах этого обращения.
Увы, писавшие до нас, если вообще проявляли интерес к темам религиозным, слишком часто погрешали тоном прямо-таки инквизиторским и демонологическим, порою же, напротив, почти агиографическим. Мы, как уже говорилось выше, не можем и не хотим умствовать о тайнах души, а тем паче души поэта, в тоне судьи, самонадеянно узурпируя суд Божий; всякий знает или должен знать, что поэты и с грехом, и с Богом знакомы по-особому; единственное наше намерение — предотвратить некоторые недоразумения. Высказывания самого Вяч. Иванова о своем обращении и его сроках могут показаться несколько противоречивыми. В цитированных только что стихах как будто сказано, что утверждение Вячеслава и Лидии «в церковном послушаньи русском» совершилось — раз и навсегда? — именно в июле 1900 г. В 10-е годы, возражая одному критику, заметившему на его счет, что вот-де еще один декадент начинает обращаться к христианским мотивам, поэт explicite настаивал на том, что его обращение состоялось уже давно [29]. У него были, конечно, свои основания на сем настаивать. От своего принципиального приятия христианской веры (и начала церковности) он с тех пор не отказывался, и без евангельских образов стихи его всех периодов просто немыслимы. Но вот он в том же 1944 г., когда поминал в стихах Владимира Соловьева и киевское свое паломничество, признается в другом стихотворении, после оглядки на Рай детства, в контексте уподобления своей матери — св. Монике, себя же — Бл. Августину:
А после ткач узорных слов
Я стал, и плоти раб греховной,
И в ересь темную волхвов
Был ввержен гордостью духовной.
И я ответствовал: «Иду»,
От сна воспрянув на ночлеге;
И, мнится, слышал я в саду
Свирельный голос: «tolle, lege».
Как человеколюбиво напомнил сам поэт в эпиграфе, слова «tolle, lege» намекают на историю обращения Бл. Августина; это такой же прозрачный символ обращения, как пробуждение от сна или слово «иду». Но ужели высказывания об узорных словах, о рабствовании греховной плоти, в особенности же о духовной гордыне и «темной ереси волхвов» относятся исключительно ко времени до июля 1900 г.? Нет, конечно. И словесной «узорности», и чувственности, и волхвований в поэзии (да и в биографическом образе) Вяч. Иванова, скажем, поры I тома «Сог ardens» не меньше, а заведомо больше, чем в ранний период. Евгения Герцык, как мемуаристка заслужившая своей неточностью именно в отношении хронологического структурирования жизни Вяч. Иванова обоснованные укоризны [30], однако как-никак тоже свидетельница, рассказывает о 1911 г.: «В тот год сложились религиозные верования Вячеслава Иванова. И навсегда» [31] . С другой стороны, о каком-то новом обращении, новом отречении от прежнего «язычества», красноречиво говорит стихотворение «Палинодия», написанное в Павии 14 января 1927 г.
…Когда ж, подземных флейт разымчивой игрой
В урочный час ожив, личины полой очи
Мятежною тоской неукротимой Ночи,
Как встарь, исполнились — я слышал с неба зов:
«Покинь, служитель, храм украшенный бесов».
И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды
Молчанья дикий мед и жесткие акриды.
Такие слова что-то значат. Даром они не говорятся. С другой стороны, если бы мы односторонне восприняли «Палинодию» как исчерпывающее и окончательное суждение поэта о своем прошлом, это было бы упрощением. Хотя бы стихи «Римского дневника 1944 года» вносят очевидные коррективы.
Есть еще одна сторона дела, о которой говорить особенно странно, но которая важна при реалистическом обсуждении религиозной жизни — не поэта, не мыслителя, но «просто» человека. Как очевидно из воспоминаний современников, в особенности дочери Лидии, говение в Киево-Печерской Лавре отнюдь не было переходом к систематической жизни «практикующих» православных. В течение десятилетий Церковь оставалась для Вяч. Иванова, бесспорно, «умопостигаемым» предметом веры («…верую во Святую, Соборную и Апостольскую Церковь…») [32] , а также, в особенности под влиянием дружбы с Владимиром Эрном и о. Павлом Флоренским в 1910-е гг., мыслительным тезисом, необходимым диалектическим моментом неославянофильских философских конструкций, но в общем почти не была конкретной бытовой реальностью. Беседа с пустынником-«имяславцем» в Красной Поляне летом 1916 г. [33], и вообще мысли о тайных старцах, молитвами коих держится мир, — да; постоянное домашнее чтение вслух Евангелия, пропитывавшее не только ум, но и словесный вкус поэта, временно пресекавшеесятолько в бакинский период в начале 1920-х гг., — да; но «прихожанином» в смысле, так сказать, эмпирическом Вяч. Иванов стал, как кажется, лишь в римские годы. Это — тоже фон для вывода.
И вот вывод: если мы не хотим, с одной стороны, стилизовать реальность, а с другой стороны, безосновательно подозревать поэта в том, что он попросту и попусту играл даже не с мыслями, а со словами, будто и не имевшими для него смысла, — нам придется отрешиться от представления о revival, как его понимают некоторые американские сектанты: в таком-то часу, такого-то числа такого-то месяца и года имярек сподобляется благодати возрождения в Боге и с этой поры однозначно сохраняет свою идентичность «нового человека». Отец протестантизма Мартин Лютер сказал иначе: simul iustus et peccator, «одновременно и праведен, и грешен». Классический пример обращения, особенно дорогой Вяч. Иванову, — Бл. Августин; отец Церкви служил грешному поэту в делах веры очень высоким, недостижимым примером. Однако же современные специалисты по Августину убедительно разъясняют нам, что и его обращение, ознаменованное теми самыми словами «tolle, lege», будучи окончательным, не было последним, что и его понимание обретенной веры очень существенно изменялось впоследствии, что история его обращений несколько сложнее, нежели полагает иной не в меру простодушный читатель «Исповеди» [34]. Поэт, отнюдь не принадлежащий к Отцам Церкви, тем более обречен был приходить ко Христу снова и снова — каждый раз после новых, подчас далеко заводивших блужданий. Как будет сказано в момент одного из этих новых обращений, в пору «Сог ardens»:
И я был раб в узлах змеи,
И в корчах звал клеймо укуса;
Но огнь последнего искуса
Заклял, и солнцем Эммауса
Озолотились дни мои…
С мистическими понятиями тайны и таинства, а равно откровения и знамения («символа»), у поэта, изжившего свой отроческий и юношеский кризис, трудностей уже не было никаких; настолько, что порой может померещиться, что у него не было случая для подвига веры в обычном понимании, — он как будто не веровал, а просто видели зналбытие Божие из непосредственного опыта. С чем у него были трудности, долго были, — как у всей культуры, у всей эпохи, российской и всеевропейской, к которой он принадлежал, и которая через свой опыт впервые открывала перспективы, столь опасно актуальные сейчас, по прошествии столетия и накануне сроков, провозглашенных глашатаями New Age, — так это уж скорее с понятием заповеди, простого и однозначного Божьего запрета на грех [35]. Это он с болью открывал для себя, именно здесь сохраняя большую стыдливость переддругими. Для любителей словесности, привыкших к эстетическому феномену«Вячеслава Великолепного», обретающемуся чуть ли не по ту сторону добра и зла, — курсивом оба раза выделены формулы его любимого Ницше, — неожиданно прочитать в воспоминаниях сердечно близкого к нему Сергея Витальевича Троцкого: «…Как-то говорили мы с ним о личных отношениях каждого из нас к любимым людям, о правде и виновности, о трудном и роковом; и как-то я так близко подошел к его сердцу, что, обливаясь слезами, он воскликнул: "Не надо! не прикасайтесь! — я весь смердящий!"» [36].
Еще раз: обращение повторяется снова и снова. Толика опытности, если не духовной, так хотя бы житейской и филологической, отучает нас этому удивляться.
Вернемся, однако, ко временам общения с Владимиром Соловьевым. Философ, которому предстояло быть после смерти канонизированным символистской культурой в качестве ее основного предтечи, как известно, выступил с ехидными пародиями на основополагающие для «декадентского» аспекта символизма опыты раннего Брюсова. Насколько известно со слов О. А. Шор-Дешарт, он не без иронии предрекал Вяч. Иванову восторженный прием со стороны «новаторов», однако сам советовал поэту сохранять уединенную позицию. Совет был исполнен в той мере, в какой был осуществим; да, оба первые поэтические сборника Вяч. Иванова — «Кормчие звезды»(1902, часть тиража помечена 1903) и «Прозрачность» (1904) — были подготовлены к изданию вдали от какой бы то ни было литературной среды, на фоне скитальческой жизни, включавшей благочестиво-ученые паломничества в Палестину (Пасха 1902 г., с заездом по дороге в Египет) и особенно в Грецию, где поэт поначалу очень тяжело переболел тифом, пережив как подобие инициации спуск к самому порогу смерти, а выздоровев, до начала следующего года занимался научной работой, а также, например, посещение занятий санскритом в Женеве у великого филолога, основателя современной лингвистики Фердинанда де Соссюра. Кстати, довольно интересный, хотя едва ли дефинитивно разрешимый вопрос, — не было ли воспринято поэтом то соссюровское переосмысление понятия «анаграммы», которое осталось не заявленным в прижизненно опубликованных работах ученого, но зато наделало столько шума много позднее, уже в эпоху структурализма? Чуткость, которую проявит именно к этому кругу вопросов Вяч. Иванов в 1908 г. в своей вступительной статье к пушкинским «Цыганам» во II томе сочинений Пушкина под ред. С. Венгерова, истолковывая как средоточие всего фонического космоса пушкинской поэмы шифруемые звуки имени «Мариула», заставляет считать влияние идей женевского ученого достаточно правдоподобным; сказать больше мы не имеем права. Но и ученые уединения поэта постепенно подводят его к неизбежной, неминуемой встрече со складывающимся сообществом — в ту пору чуть ли не общиной! — русских символистов. В том же 1903 г. Вяч. Иванов читает в Париже курс лекций о древнеэллинской религии Диониса в вольной русской «Высшей школе общественных наук», учрежденной М. М. Ковалевским; однажды на его лекцию пришел представиться Валерий Брюсов, уже опубликовавший к этому времени одобрительную рецензию на «Кормчие звезды» еще никому не ведомого автора. Тогда же эпистолярные контакты с Ивановым предпринимает Мережковский. В следующем году происходит тот приезд Иванова в Москву, к сенсации, произведенной которым, относится цитированное выше ироническое описание Андрея Белого. Сам поэт сдержанно говорит в «Автобиографическом письме»; «…Мы с женою познакомились с московскими поэтами, — Брюсов, Бальмонт, Балтрушайтис признали меня торжественно "настоящим", и мы торжественно же побратались, — а вслед затем и с петербургским кружком "Нового Пути"».
Думая о том, чем со временем стал символизм, никогда не надо забывать, чем он был для участников в самый момент своего рождения. Надсоновская пора русской культуры — страшный провинциализм интеллигентского сознания; и революционерство, и власть без конца повторяют уже сказанное, социально-критические парадигмы мысли и творчества вырождаются в готовые фразы, с немилосердным автоматизмом навязывающие себя новым и новым поколениям… Тем большее эмоциональное значение приобрел выход из замкнутого круга. Выше упоминалась выразительнейшая статья Зинаиды Гиппиус «"Мы" и "они"», посвященная именно этому опыту.
Русский символизм — нечто совершенно иное, нежели просто «течение» в литературе и искусстве. Символистов объединяла не то чтобы солидарность поколения, настаивающего на своих вкусах, на своем частном, именно поколенческом опыте, — как, скажем, позднее она объединяла акмеистов [37]. До чего характерно, что акмеисты и были все более или менее ровесниками — и столь жехарактерно, что в кругу символистов физический возраст поразительно иррелевантен; недаром Вяч. Иванов предложил на полтора десятилетия младшему Андрею Белому перейти с ним на «ты», — в этом своем решении, шокировавшем, по мемуарному свидетельству Белого, Зинаиду Гиппиус, самосознание символистской общности выразилось очень точно. Любой историк литературы бестрепетно причисляет Вяч. Иванова, почти сорокалетним вступившего в литературную жизнь, к «младшим» символистам, а Брюсова, который родился на целых семь лет позже Иванова, — к старшим. Отметим, что «общинное» самосознание русского символизма, реальное поначалу, но и позднее, вопреки всем распрям, остававшееся в силе хотя бы на правах императива, долженствования, стремилось отменить не только грани между поколениями, но и многие другие различия, важные в филистерском мире вокруг «общины»: различие в традиционном распределении ролей мужчин и женщин (см. выше), значимость происхождения — не важно, пришел ли человек из уюта петербургского начальственного особняка, как Мережковский, или из нищей литовской семьи, как Балтрушайтис, важно, не откуда, а куда он пришел, и притом не толькодля собратьев, но и для него самого. Федор Сологуб, переживший в детстве ужасы похлеще, чем Максим Горький, не мог, в отличие от последнего, положить эти ужасы в основу своего писательского, как нынче говорят, «имиджа», и эта невозможность была связана именно с его принадлежностью к символистам. Сказать по такому поводу, что символисты, в отличие от реалистов, игнорировали «социальную тему», было бы простовато. Тот же Сологуб писал стихи, например, о расстрелах демонстраций, о еврейских погромах. Но важно, что это было — не о нем самом. Ибо символизм держался верой, что настоящая жизнь символиста начинается с некоей инициации, делающей его символистом, и что все предшествовавшее — предыстория, значения не имеющая.
* * *
Первые публикации Вяч. Иванова, ставшие возможными благодаря все тому же Владимиру Соловьеву, имели место в 1898 г. в журналах «Космополис» и «Вестник Европы». В следующем году «Журнал министерства народного просвещения», напечатав его поэтический перевод I Пифийской оды Пиндара, положил почин его появлению перед читателем в очень существенной для него роли перелагателя эллинских поэтов. Затем вышли оба упомянутых выше сборника.
Уже в «Кормчих звездах», несмотря на неизбежные отголоски позднего романтизма, достаточно отчетливо заявляет о себе специфическая поэтика Вяч. Иванова, которой предстояло сохранять все свои определяющие признаки до самого конца жизненного пути поэта.
Для поэтики этой присуще очень последовательная, не боящяяся крайностей языковая стратегия: Гумилев утверждал даже, что «мы вправе говорить о языке Вячеслава Иванова как об отличном от языка других поэтов» [38]. Прежде всего воображение читателя поражает небывалое со времен битв шишковской «Беседы любителей русского слова» с карамзинским «Арзамасом» пристрастие к славянизмам, — притом не только лексическим, но и синтаксическим [39], да и вообще к особому складу, особой субстанции старозаветной речи [40]. Именно славянизмы прежде и более всего иного попадают на зубок рецензентам и пародистам, именно они определяют тривиальное представление о творчестве Вяч. Иванова. На одной карикатуре 1909 г., изображающей корифеевсимволизма, литургически воздевший руки к небесам Иванов являет надпись на груди: «Требуется переводчик»; в стихотворной подписи к этой карикатуре к нему относятся строки:
Вячеслав за ним, писатель
На пифийском языке…
Нам следует одновременно видеть обе стороны этого «пифийского» наречия. С одной стороны, требует к себевнимания свидетельство дочери поэта, подчеркивающей, насколько естественным был для него самого славянизированный язык [41]. И вправду, надо помнить, что определенные речевые особенности мы встречаем не только в поэзии Вяч. Иванова, даже не только в его статьях, но, насколько возможно об этом судить, и в его устной речи. Во времена, когда формировался речевой вкус будущего поэта, еще звучал говор, сохранявший интонации, отброшенные досимволистской литературой за вычетом разве одного только Лескова; что-то могло быть впитано, как знать, еще от Александры Дмитриевны. С другой стороны, однако, нельзя недооценивать сознательности и последовательности задуманного и осуществленного Вяч. Ивановым языкового эксперимента; это никак не эхо слышанного, это сложный замысел. В чем были решительно неправы пародисты, так это в тривиальной идентификации ивановского языка с языком русских поэтов XVIII века, прежде всего с манерой задразненного Тредиаковского («Доколь в пиитах жив Иванов Вячеслав, — / / Взбодрясь, волхвует Тредьяковский»), но также и с творениями других одописцев. Разумеется, на деле язык Иванова нельзя даже приблизительно отождествлять с какой бы то ни было минувшей фазой эволюции русского языка; это не имитация и не реставрациястарины, но попытка дать через старину язык вне времени, обобщенно выразить его, так сказать, платоновскую идею или аристотелевскую энтелехию. Для этого и нужна та «причудливая смесь торжественно-архаических, вновь сочиненных и простонародных слов», которую очень сердито отмечал в своей филиппике против подхода Иванова к эолийской лирике такой ревнитель досимволистских навыков, как Вересаев. И здесь Иванов «беспочвенно запределен», ибо отходит от данностей русского литературного наречия, от языка эмпирического к языку умопостигаемому. Правда, как раз в «Кормчих звездах» ощущается куда более наивная, менее переработанная, чем это будет возможно для поэта позднее, связь с традицией русской метафизической поэзии тех времен, скажем, когда еще совсем молод был Тютчев [42]. В сугубо программном стихотворении «Альпийский рог», посвященном центральной для Иванова теме отзвука, дополняющего звук, можно расслышать рассудительно-замечтавшуюся интонацию Жуковского:
Средь гор глухих я встретил пастуха,
Трубившего в альпийский длинный рог.
Приятно песнь его лилась; но, зычный,
Был лишь орудьем рог, дабы в горах
Пленительное эхо пробуждать.
И всякий раз, когда пережидал
Его пастух, извлекши мало звуков,
Оно носилось меж теснин таким
Неизреченно-сладостным созвучьем,
Что мнилося: незримый духов хор,
На неземных орудьях, переводит
Наречием небес язык земли…
* * *
И вот — наконец-то — оканчивается столь затянувшийся первый заграничный период жизни Вяч. Иванова. Он уже не наезжает в Россию, хотя бы для торжественного посещения собратьев по символизму, — он переезжает в Петербург, чтобы впервые почти за два десятка лет не гостить в России, а жить в ней у себя дома. Для такого решения были как семейные, так, надо полагать, и связанные с определившимся местом в новой русской культуре мотивы, — но главной причиной было сгущавшиеся еще к началу 1905 г. предчувствия необычайных, катастрофических событий, которые дадут русской истории совсем новый толчок. Блок впоследствии будет вспоминать в стихотворении, обращенном именно к Вяч. Иванову:
Был скрипок вой в разгаре бала.
Вином и страстию дыша,
В ту ночь нам судьбы диктовала
Восстанья страшная душа…
Предчувствия эти не могли не быть остро амбивалентными. Иванов, как подавляющее большинство его круга, не мог не надеяться на приход неведомой, новой свободы, новой жизни. Тема чаемого возрождения России звучит в стихах 1904 г., написанных в грустное время бессмысленных смертей на японском фронте:
Как осенью ненастной тлеет
Святая озимь, — тайно дух
Над черною могилой реет,
И только душ легчайших слух
Незадрожавших трепет ловит
Меж косных глыб, — так Русь моя
Немотной смерти прекословит
Глухим зачатьем бытия…
В письме Брюсову от 2 января 1905 г. повествуется о новогодней ночи, проведенной в семейном кругу и в обществе молодого Эрна, и следуют строки, обращенные к Брюсову и содержащие намек на брюсовское увлечение пророчествами немецкого мага Корнелия Агриппы Неттесгеймского (1486–1535):
…Тогда, быть может, твой Агриппа
Вещал бы нам, что в новый год
Сужден России дар свобод…
Но 24 февраля он писал тому же Брюсову в тоне хотя и небезрадостном, однако, во всяком случае, далеком от беспроблемно-идиллического: «…Пророс великий росток! Правда, общее безумие — реально — охватило Россию… Пережить нужно все» [43].
Любопытный вопрос, кажется, впервые сознательнопоставленный Н. В. Котрелевым [44], — почему Вяч. Иванов, природный москвич, которому позднее предстояловернуться в Москву, воспеть московские впечатленияначальных лет в поэме «Младенчество», а после именноих ностальгически вспоминать в эмиграции, тогда приехализ своего многолетнего зарубежного бытия все-таки не в Москву, а именно в Петербург? Котрелев с полным основанием отмечает разочарование поэта в московском кружке, объединенном вокруг брюсовских «Весов», где преобладал неприемлемый для него дух безразличия к проблематике религиозной; «он надеялся встретить большее понимание в среде, породившей "религиозно-философские собрания" и журнал "Новый путь" (где уже был напечатан по просьбе Д. С. Мережковского парижский курс о дионисийстве)». Но были, кажется, и другие причины. Переезд в Россию происходил, как мы видим, под знаком напряженного ожидания революционных событий; и поэта тянуло в самую столицу империи, в город расстрела 9 января, к месту, где, казалось, были сплетены роковые узлы времени.
Пришелец, на башне престол я обрел
С моею царицей-Сивиллой
Над городом-мороком, — смурый орел
С орлицею ширококрылой.
Стучится, вскрутя золотой листопад,
К товарищам ветер в оконца:
«Зачем променяли свой дикий сад,
Вы, дети-отступники Солнца,
Зачем променяли вы ребра скад
И шепоты вещей пещеры,
И ропоты моря у гордых скал,
И пламенноликие сферы —
На тесную башню над городом мглы?
Со мной — на родные уступы!…»
И клекчет Сивилла: «Зачем орлы
Садятся, где будут трупы?»
В этом стихотворении узнается облик здания на Таврической улице, 25, где на шестом этаже, в круглящихся, «башенных» комнатах, в окна которых виден Таврический сад с его золотыми листопадами, осенью 1905 г. поселились поэт и его Сивилла. Не миновала еще осень, как в этом месте начинаются «среды» под бессменным председательством Николая Бердяева, продолжавшиеся с перерывами до 1910 г., ставшие и мифом, и притчей во языцех. Но даже и тогда, когда специфическая форма журфикса вызвала уж очень непомерный наплыв вовсе чужих людей, иронически расписанный Андреем Белым: «Дверь — в улицу: толпы валили…» [45], — и «среды» как таковые были отменены, «Башня» оставалась местом встреч поэтов, людей искусства и философов, ареной диспутов и умственных игр, «где всегда гостили друзья […], долгое время постоянно жил М.А. Кузмин […], и где все, на манер барочных итальянских академий, имели прозвища…» [46], вплоть до отъезда Вяч. Иванова в Италию летом 1912 г.
Пора «Башни» — апогей активного воздействия Вяч. Иванова на самоосмысление и самооформление новой русской культуры, предел его внешней славы, оборотной стороной которой были сплетни и насмешки. Если он когда был средоточием целой эпохи, «царем самодержавным», как выразится позднее Блок, то именно в ту пору. Однако Ольга Шор-Дешарт, имевшая возможность почувствовать многое из личного контакта с Вяч. Ивановым, настаивает на том, что сам он воспринимал эту «победную пору» своей жизни менее всего радужно [47]. Дочь поэта Лидия также выразительно говорит в связи с концом «башенного периода»: «У меня было ощущение, точно рассеялась та туча и тот морок, которые висели над нами в Петербурге даже и в радостные минуты» [48] . В дневниках Вяч. Иванова этого времени мы встречаем очень характерные записи: «Гашиш фантазии, воссоздавая из намека осуществления, довольно водил меня, за это последнее время, "по садам услад". Я чувствую себя размягченным, изнеженным и нечистым»(1 июня 1906 г.); «Строгости большей и большей чистоты требует от меня жизнь. /…/ Два года я ношусь над землей между фантасмагорией и потусторонней истиной, и дух мой глубоко устал в этих попытках различения между сном и действительностью, в этих обрывающихся усилиях беспримесного приятия миров иных»(27 июня 1909 г.); «Трудно и страшно описывать беспощадную битву этих дней, безжалостную, жестокую рубку зеленеющего и нежного, но ядовитого и обитаемого злостными демонами, проклятого леса. Кажется, что я добиваю что-то мучительно живучее, умилительно глядящее и с последнею злобою пытающееся ужалить смертельным жалом»(6 июля 1909 г. [49]).
Совершенно неизбежной для «Башни» стала тема, ныне, почти через столетие, банализируемая по всему свету от философской или околофилософской эссеистики, от формальных ультиматумов, скажем, католической паствы своим пастырям (т. н. «Kirchenvolksbegehren» в Вене 1995 г.) до газетных умствований и пересудов: радикальное преобразование традиционных для христианской культуры норм сексуальной этики и всего строя отношений между мужчинами и женщинами — просим читателя вспомнить сказанное выше о феминистской компоненте символистского движения! — и, в частности, открытое возвращение в социальную и культурную жизнь Европы когда-то столь заметной в языческих Афинах однополой любви. Обсуждалось будущее, «…когда, с ростом гомосексуальности, не будет более безобразить и расшатывать человечество современная эстетика и этика полов, понимаемых как "мужчины для женщин" и "женщины для мужчин", с пошлыми appas женщин и эстетическим нигилизмом мужской брутальности, — эта эстетика дикарей и биологическая этика, ослепляющие каждого из "нормальных" людей на целую половину человечества и отсекающие целую половину его индивидуальности в пользу продолжения рода»(запись в дневнике Вяч. Иванова от 13 июня 1906). Мы узнаем черты эпохи: культурной сенсацией всей Европы стал появившийся в 1905 г. автобиографическийфрагмент Оскара Уайльда «De Profundis», поведавший об ужасах тюрьмы и общественного остракизма, которые постигли поэта именно за выход из числа нормальных в только что упомянутом смысле. Фрагмент этот быстро входит в круг, так сказать, обязательного чтения для носителей символистской и постсимволистской культуры. Но для Вяч. Иванова означенная тема вызывала иной круг ассоциаций: ему думалось не об Оскаре Уайльде, а уж скорее о Платоновом «Пире», о юношах вокруг Сократа, об учениках Леонардо и тому подобных Bildungsangelegenheiten. О. Шор-Дешарт имела все основания отметить для этих его раздумий «теоретический и эстетический характер» [50]. Она была совершенно права. Только в этом контексте понятен странный эпизод, разыгравшийся под конец лета 1906 г., детально описывавшийся в письмах Вяч. Иванова к Лидии в Швейцарию и легший в основу цикла «Эрос» в составе I тома «Сог Ardens». Если когда-нибудь Вяч. Иванов был вправду повинен в том, в чем его так часто упрекали — в недопустимо книжной стилизации устрашающе конкретных жизненных вопросов, — то, наверное, именно тогда. Очевидно одно: грубо ошибется тот, кто, в порыве ли морализаторских обличений или имморалистских дерзаний, редуцирует проблему до сексуальной. Слишком очевидно, что дело шло о психологических эксцессах и срывах вокруг исконно символистской проблемы общения и общинности, об изживании утопии невиданного, небывалого приближения адептов новой «соборности» друг к другу, при котором все естественные межличностные дистанции будто бы сами собой исчезают.
Да, конечно, нельзя не видеть мороков и наваждений, которые с тех пор к тому же потеряли свою тогдашнюю призрачную оригинальность; однако совершенно несообразно было бы, чувствуя это, не приметить иное — трудно представимый сегодня тонус бескорыстной сосредоточенности на мире идей, очень точно описанный с оглядкой на прошлое уже из эмиграции Федором Степуном:
«Несмотря на большое количество таившихся в ней опасностей /…/ русская довоенная жизнь была в иных отношениях исключительно здоровой. Значение выдающихся людей эпохи не определялось ни славой во французском смысле слова, ни успехом — в немецком. Творческий дух жил еще у себя дома: он не пах ни кровью, ни потом соревнования и не требовал освещения рекламным бенгальским огнем. Несмотря на демократические и социалистические устремления в политике, культура жила своей интимной аристократической жизнью, и лишь в очень незначительной степени капиталом и рынком. По всем редакциям, аудиториям и гостиным ходили одни и те же люди, подлинные перипатетики, члены единой безуставной вольно-философской академии» [51].
В определенном смысле центральное явление творческой биографии Вяч. Иванова — плод эпохи «Башни»: два тома «Сог ardens». Одно время сборник стихов, рождавшийся в «гневную» пору революции, предполагалось озаглавить латинским каламбуром «Iris in iris» (букв. «Радуга в гневах» — не только каламбур, но и парадокс, иборадуга есть библейский символ примирения). В первоначальном объеме сборник этот был готов в 1906 г.; в письме поэта Брюсову от 3 июня обсуждались сугубо конкретные вопросы шрифта, формата и т. п. Но дело затягивалось; а в следующем году случилось событие, разрубившее всю жизнь Вяч. Иванова надвое, — кончина Лидии Дмитриевны 17 октября от скарлатины, которой она заразилась, помогая больным детям в деревне. В его поэзию отныне входит на правах существеннейшей темы — надгробный плач. Как скажет он позднее:
Тот вправе говорить: «Я жил», —
Кто знает милую могилу…
Возникают новые лирические циклы, связанные прямо или косвенно с этой темой. В конце концов, сборник «Сог ardens» вышел только в 1911 г., но зато в двух объемистых томах. Младшим адептам символистской культуры, например, М. М. Бахтину, именно он запомнился как предельная вершина ивановской поэзии [52]. Для нас оценки могут быть иными, но что совершенно очевидно, так это доводимое поэтом до nес plus ultra дефинитивное исчерпание тем и поэтики символизма в неутомимых вариациях, артикулирующих аспекты многозначности ключевых символов — солнце-сердце, роза, струение води т. д. В этом есть что-то, заставляющее вспомнить о балетных танцах — ведь то было великое время для русского балета. Декоративная, чувственная техника звука достигает зрелости, после которой дальнейшее развитие в том же направлении простоневозможно. Второй том, поэтика которого остается в большой степени той же, человечнее, самоуглубленнее первого хотя бы потому, что весь стоит под знаком памяти о милой могиле:
Мы шли вдвоем жнивьем осиротелым,
А рок уже стерег…
И ты сказала: «Облако находит,
И будет снег, и покрывалом белым
Застелет даль дорог,
И запоздалых в путь зима проводит.
Незваное приходит!
Благословен да будет день идущий,
Благословен не ждущий!
Благословен солнцеворот, и серп,
И поздней осени глухой ущерб!»
В первом томе христианские мотивы, артикулированные отчетливо, соседствуют с недвусмысленно языческими, также и ведовскими, с магическими arcana; во втором томе христианское решительно преобладает.
Линия притихшего, медитативного лиризма была продолжена в следующем сборнике «Нежная Тайна», появившемся в 1912 г. Его тема — радость с заплаканным лицом, радость сквозь слезы. Последняя любовь поэта была воспринята им как возвращение прежней любви, любви к Лидии; он влюбляется в черты Лидии, узнаваемые в ее дочери— Вере Шварсалон, падчерице Иванова, которая становится его женой (венчание совершилось летом 1913 г. — снова в Ливорно, у того же греческого священника). Разумеется, брак этот вызвал немалый скандалв обеих русских столицах и множество пересудов; но поэт, укрывшийся с Верой на берега Лемана, переживал свое позднее счастье без тени демонизма, от которого делается дальше, чем когда-либо перед этим. Это уже не Вячеслав «Башни»: по свидетельству дочери, «он сам сделался совсем другим: простым, полным юмора, лирическим, беспомощным» [53]. У нее же мы читаем: «Вспоминаются мне Вячеслав и Вера идущими по дороге. Они возвращаются с прогулки. […] Почему-то, глядя на них, сердце сжимается: солнце закатывается, они идут тихие, покорные, хрупкие. За них как-то страшно, их жалко» [54]. Это хорошая заставка к «Нежной Тайне», тема которой — счастье, ни на минуту не забывающее о милой могиле. Многие стихи посвящены вниканию в единство жизни и смерти, любви и скорби, радости и утраты.
Словесный состав поэзии Вяч. Иванова приобретает черты легкости и подвижности, порой даже аскетичности, контрастирующей с тяжелой роскошью «Сог ardens»:
…Наше сердце глухо,
Наши персты грубы,
И забыли губы
Дуновенье духа…
И даже когда возникает старая тема дионисийского исступления, она дается без декоративных кривизн стиля модерн, с какой-то классической, пушкинской логичностью и точностью:
…Брызнул первый пурпур дикий,
Словно в зелени живой
Бог кивнул мне, смуглоликий,
Змеекудрой головой.
Взор обжег и разум вынул,
Ночью света ослепил
И с души-рабыни скинул
Все, чем мир ее купил.
И в обличьи безусловном
Обнажая бытие,
Слил с отторгнутым и кровным
Сердце смертное мое.
Одна из наиболее острых тем, возникающих в поэзии Вяч. Иванова после конца символистской эпохи, в начале 1910-х гг., и затем проходящая красной нитью до конца его творческой биографии, — это тема выхода из тождества прежнему себе, радостной готовности начать все с начала. Хозяин «Башни», живой символ связанной с ней поры, сам вовсе не ощущал себя непременно ее частью. Еще в начале 1912 г. написано стихотворение «Разводная», в котором поэт обращается к своим друзьям и недругам:
Кого вы помнить будете,
Навек забуду я.
Бежал, кого осудите,
В безвестные края
…Чье имя с крыш вострубите,
Укрылся под чужим.
Кого и ныне любите,
Уж мною не любим.
Стихотворение это написано в 1912 г. Мотивы «бегства» поэта и грозящего ему «осуждения» словно бы приобретают в контексте биографического момента также и довольно конкретный характер, к коему, однако, смысл общего никоим образом не сводится. Об этом решительно напоминает черновой набросок более поздней поры — второй половины 1910-х гг., когда обстоятельства были уже совсем иными; заглавие — «Перевал»:
…И вижу днесь
(прозрачна даль в горах)
С моей вершины
На дне долины
Как просто все и пусто!
Душный прах!
Легка сума; в пути я не устал;
Песней и смехом
Играю с эхом —
И весело схожу за перевал.
Для поры I мировой войны жизнь Вяч. Иванова чем дальше, тем более характеризуется личной дружбой и умственным союзом с такими ревнителями православия, неославянофильства и платонизирующего «онтологизма», как о. Павел Флоренский и особенно В. Ф. Эрн. Последний был, судя по всему, что мы знаем, человечески — благодаря своей очень чистой и сильной воле — значительнее, чем его философские труды, хотя и последние достаточно оригинальны и существенны, чтобы на исключительно богатой панораме русской мысли той поры завоевать ему свое, только ему принадлежащее место. Раннюю смерть Эрна в 1917 г. Вяч. Иванов воспел с очень высокой хвалой духовной высоте покойного друга («Оправданные», «Деревья»). Поразительно одно высказывание поэта в разговоре с Альтманом от 15 июня 1921 г.; на слова Альтмана о соловьевском влиянии на Иванова тот возражает: «Больше гораздо влиял на меня Эрн» [55] . Для Бердяева сближение поэта с неославянофильскими философами выглядело как одиозный шаг навстречу «стилизованному православию»(заглавие бердяевской рецензии на книгу Флоренского), как странное и неорганичное погружение в почвеннические аффекты; по счастью, несогласия тематизировались не только в публичной полемике, но и более доверительным, а подчас домашним и юмористическим образом [56]. Темпераменту и жизненной установке Вяч. Иванова была далека боевая задиристость «викинга» Эрна, выразившаяся в его нашумевшей статье «От Канта к Круппу» («И как гром его угроза / / Поражала кантиан», — читаем мы в шуточной балладе про философа); еще дальше была ему монологическая замкнутость Флоренского. Однако это было самое славянофильское время в жизни поэта, что находит отклик также в стихотворениях на злободневные темы [57]; правда, стихотворения эти немногочисленны, и в сугубо иерархизированном ивановском корпусе они занимают подчиненное место; в сборники они не включались. Трагедия 1914 г. состояла, между прочим, и в том, сколь многим властителям дум по всей Европе примерещилось, будто война — горькое, но спасительное лекарство от самых разнообразных недугов, действие коего все поставит на место. Подобные мысли были тогда у людей столь почтенных и столь несхожих, как, скажем, Шарль Пеги во Франции и Томас Манн в Германии. Вяч. Иванов связывал с войной надежды на усвоение Россией и вообще «славянством» британского чувства личной свободы («Байронизм как событие в жизни русского духа»), на «славянскую мировщину», т. е. освобождение Польши и ее примирение с Россией… Мы могли бы сказать с несколько невеселой улыбкой: он «славянофильствовал с оттенком либеральным».
Как бы то ни было, однако, именно в контексте публицистического реагирования на злобу дня военных лет Вяч. Иванову довелось, между прочим, сделать нечто, выходящее далеко за пределы расхожей антинемецкой фразеологии, — а именно, предсказать на два десятилетия вперед феномен гитлеризма. Вспомним, как он еще юношей ужаснулся «Фаэтоновой» гордыне в облике последнего немецкого кайзера. Теперь, когда «Фаэтон» уже поджег мир и направил к погибели свою колесницу, но покамест все еще правил ею, когда Адольф Гитлер еще был абсолютно никому не ведомым младшим офицером, — Иванов уже описывал, во-первых, будущий германский тоталитаризм, во-вторых, будущий германский антисемитизм, который оставит далеко позади все прежние гонения на евреев. Речь идет о двух статьях, которые обе вошли в сборник «Родное и вселенское»: «К идеологии еврейского вопроса» (1915) и «Легион и соборность» (1916). То обстоятельство, что Вяч. Иванов не только не был вульгарным германофобом, но по обстоятельствам своей биографии тяготел именно к немецкой культуре, придает его прозрениям особую остроту. В первой статье он не просто осуждает антисемитизм, как это и приличествует верному ученику Владимира Соловьева, но и выражает особую тревогу по поводу новейшей германской формации, как он выражается, «романтиков арийства». Сегодня, когда весь мир знает, что романтики арийства в конце концов устроили Освенцим, слова Вяч. Иванова могут показаться всего лишь разумными, не более того. Но тогда Освенцимом вроде бы и не пахло, немецкие евреи были со времен Бисмарка едва ли не самыми благополучными, эмансипированными и ассимилированными в мире, от своего германского отечества они ждали всех правовых, материальных и культурных благ и в свою очередь готовы были за него умирать; для националистов во Франции и в Англии — читай хоть антидрейфусаров, хоть Илэри Беллока — евреи были плохи именно тем, что симпатизировали всему немецкому [58]; в 1914 г. еврейские газетыв Германии провозгласили войну святым делом — свободные немецкие евреи идут на Восток освобождать своих собратьев, томящихся под игом черты оседлости и погромов; даже и позднее, на самом пороге гитлеровской поры, предвосхищавший в других отношениях национал-социалистическую идеологию Освальд Шпенглер еще будет рекомендовать «естественный» союз «немецкого меча» и еврейского финансового гения, каковым и предстоит вместе приводить в порядок мир. И вдруг Вяч. Иванов с очевидной тревогой говорит — когда еще, в 1915 г.! — про «троянских деревянных коней германского изделия», коим предназначено "индо-германизировать" мир». Как тут не подивиться? А во второй статье мы встречаем пугающе точное описание тоталитаризма: «Что-то серединное и главенствующее как бы исторгнуто из целостного сознания личности, атрофировалось в ней и увеличило своей энергией мощь сверхличных, направляющих центров муравьиного царства». Несмотря на все успехи тогдашней немецкой социал-демократии, поэт прогнозирует для Германии не социализм, а именно национал-социализм: «Из всех видовых соединений наиболее сильным в наши дни — более сильным, чем само "классовое сознание", — оказалось соединение по признаку национальности, и старая национальная идея в ее сочетании с еще старейшими формами государственной принудительности, была положена в основу национальной кооперации нового типа — в германстве…»Временами язык, которым пользуется Вяч. Иванов, говоря о Германии, совсем уже поразительно напоминает лексикон 1945 г. — «…Вдохновение демонов, ныне и, даст Бог, временно, до дня внутреннего раскаяния бесноватой нации, одержащих германство…». Отметим, что хотя размышления на политические темы занимают у поэта, как правило, место периферийное, точность этого прогноза, как кажется, не была для него случайной или необычной. Есть и другие примеры в том же роде. Скажем, разговаривая в Баку с Моисеем Альтманом о мотивах, побуждающих Анатоля Франса занять прокоммунистические позиции, Вяч. Иванов в нескольких фразах набросает картину предстоящего роста германской угрозы и соответственной потребности для французских патриотов в прагматическом союзе с русскими большевиками [59], — а в это время бессильная Германия будет пока лежать в развалинах, и если кто станет искать союза с советской Россией, так именно она…
* * *
Поэтическое творчество этих лет в значительной мере продолжает почин «Нежной Тайны». В сущности говоря, не будет слишком рискованным предположение, что если бы судьба сборника 1912 г. повторила судьбу «Сог ardens» и публикация затянулась, то ряд стихотворений, введенных позднее в последний сборник «Свет вечерний», мог бы расширить тонкую книжку «Нежной Тайны». Принципиально новая творческая инициатива тех лет — «Человек», рождавшийся в военном 1915 г. и завершенный в революционные годы 1918–1919 гг. Это, как обозначил ее жанр сам поэт, «мелопея» — философская поэма со связным течением мыслей, но поэтически построенная как цикл лирических стихотворений (термин «мелопея» симметричен известному термину «эпопея»). Организация этих стихотворений внутри целого является очень специфической. Вообще говоря, для символизма, и европейского, и русского, характерна ясно артикулированная ориентация на подчинение лирического текста высшему единству цикла; Вяч. Иванов практиковал это, начиная с «Кормчих звезд», разбитых на множество разделов, каждый из которых имеет свой мыслительный сюжет, а порой, как «Парижские эпиграммы» или «Дистихи», объединены также единством формы. В этом отношении характерно его пристрастие к венкам сонетов [60]. Но в «Человеке» построение специфично даже на этом фоне. В первой, второй и четвертой частях симметрично расположены вокруг оси этой части стихотворения (хотя принцип симметрии в первой части несколько иной); внутри каждой пары имеется смысловое единство (на фоне поступательного смыслового движения в масштабе всей части и всей мелопеи в целом), оба стихотворения имеют одинаковый метр и одинаковый объем. Первая часть имеет заглавие «Аз есмь», вторая — «Ты еси»; это размышление о смысле самосознания как дара, который вне любви к человеческому и Божьему «Ты» превращается в проклятие Люцифера — «…замкнутого Я / / Самодержавную неволю». Благодать — сказать «Ты еси»:
Свершается Церковь, когда
Друг другу в глаза мы глядим…
Третья часть — «Два града» — по форме венок сонетов, представляет собой историософское размышление о пути человечества как вечном споре, по слову Бл. Августина, между любовью к себе, доведенной до презрения к Богу, и любовью к Богу, доведенной до презрения к себе. Написав эту часть, поэт склонен был в 1915 г. считать мелопею доведенной до конца; ее печатание задержалось, потому что о. Павел Флоренский предложил свои толкования, да все не представлял их. И вот в четвертой части, первоначально незапланированной, — «Человек един», Вяч. Иванов берет еще более высокую пророчественную ноту, предрекая новый опыт существенного, сверхлично-личного всечеловеческого единства живых и мертвых:
Вас, колыбельные могилы,
Возврата позднего посул,
И вас, как океанский гул,
Живых бушующие силы, —
Днесь равночисленный звездам,
В грядущем и былом единый,
Как половину с половиной
Смыкает целостный Адам…
Все завершается Эпилогом — видением живого храма, составленного из семейств человеческих душ, и переложением известной православной молитвы к Святому Духу.
* * *
О падении русской монархии Вячеслав Иванов, никогда, как и большинство людей его круга, самодержавию не сочувствовавший, не имел причин сожалеть. Одно время предполагалось, что ему вместе с Бальмонтом должен быть заказан новый гимн республиканской России; не так уж легко вообразить себе поэтов, работающих вдвоем, во всяком случае, гимн этот так и не был написан. Однако среди стихотворений 1917 г. есть такие, которые довольно явственно приближаются именно к жанру гимна:
Созрел на ниве колос:
Жнецов, Господь, пошли,
И пусть народный голос
Вершит судьбу земли —
Твоим веленьям верен,
Твоей лишь воли друг…
Блужданием измерен
Путей вселенских круг.
И с тем пребыть, что было,
И жить, как встарь, — нельзя.
Недавнее постыло;
Обрывиста стезя.
И мгла по придорожью,
И под ногою — мгла…
Найдет ли правду Божью,
Сгорит ли мир дотла?…
Любопытно вообразить себе, что у нас мог бы быть примерно такой гимн. Однако шло другое время, и с ним другие песни.
Ответ Вячеслава Иванова на Октябрь семнадцатого года вносит в разноголосицу русской поэзии совсем особую ноту. Прежде всего, это очень взрослый голос, голос человека, для которого история началась не сегодня и даже не вчера. Его отрешенное спокойствие не похоже ни на восторги Блока и Андрея Белого, ни на проклятия Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус или Ивана Бунина. Характерен поэтический отклик на строки Г. И. Чулкова: «Ведь вместе мы сжигали дом, / Где жили предки наши чинно…», относящийся к 1919 г.:
Да, сей костер мы поджигали,
И совесть правду говорит,
Хотя предчувствия не лгали,
Что сердце наше в нем сгорит.
Гори ж, истлей на самозданном,
О сердце-Феникс, очаге,
Свой суд приемля в нежеланном,
Тобою вызванном слуге.
Кто развязал Эолов мех,
Бурь не кори, не фарисействуй.
Поет Трагедия: «Все грех,
Что действие». Жизнь: «Все за всех!»
А воля действенная: «Действуй!»
В немногих строках сказано многое. Во-первых, речь идет не о предмете для восторгов, но — и это однозначно и просто — о вине и беде. Недаром Андрей Белый корил поэта за то, что тот «для сказочной нашей действительности не находит в себе бодрых, веющих радостью слов» («Сирин ученого варварства», 1922); никакой радостью здесь не «веет», чего нет, того нет. Однако все дальнейшее куда менее однозначно. Вина — это не чужая вина, не вина откуда-то извне пришедших монстров «хуже зверя», покончивших с «нашей», с «моей» Россией (как у Гиппиус: «Если человек хуже зверя, / Я его убиваю. / Если моей России нет, / Я умираю»). Это именно «наша» вина, от которой нельзя откреститься и отгородиться, вина культуры, каковая давно уже тайно и явно живет разрушением традиционной нормы, вина мыслящей и мечтающей головы, что получает заслуженное наказание от грубой силы, явившейся на деле исполнить ее бессознательный приказ, как волшебная сила является по повелению неразумного Ученика Чародея в балладе Гёте и как Смердяков выполняет бессознательные отцеубийственные помыслы Ивана Карамазова в романе Достоевского. Мысль Вячеслава Иванова — покаянная, только нужно чувствовать, насколько она лишена и тени сентиментальной экзальтации. Поэт держит в уме и эсхиловское «Что тут не грех? Все — грех!», — и, разумеется, слова Достоевского о вине каждого перед каждым. Но к этому смысл не сводится: метафора самосожжения сердца, намеченная уже в первом катрене и развитая во втором, сама собой вызывает образ Феникса, — жизнь сердца не кончается, и огненная мука, настоящая, нешуточная боль, должна быть импульсом к возрождению, к обновлению. Сгореть и воскреснуть — поэт держал в уме, конечно, и стихи Гёте: «Und solang du das nicht hast, / Dieses: Stirb und werde! / Bist du nur ein truber Gast/ Auf der dunklen Erde» («И пока в тебе нет этого призыва: "умри и стань другим!" — дотоле ты лишь унылый гость на темной земле» [прозаич. пер. Вяч. Иванова]). Он будет прямо ссылаться на них в 1920 г., обращаясь к М. О. Гершензону: «И чтобы не быть "унылым гостем на темной земле", путь один — огненная смерть в духе» («Переписка из двух углов»). Гнев и скорбь остаются гневом и скорбью, но гнев дополняется усмотрением вины собственного круга, а скорбь — готовностью искать новые источники жизни. В этой связи надо отметить еще один момент. Да, Иванов не находил, в отличие от своих символистских собратьев Блока и Белого, реальность Октября сколько-нибудь для себя вдохновляющей. Ему была абсолютно неприемлема безбожная компонента большевистской идеологии. Но он подчеркивал, что сердиться на революцию просто за то, что это — революция, т. е. бесповоротный конец прошлого, для него невозможно. В письме французскому писателю Шарлю дю Босу, уже упоминавшемся выше, он оглядывается еще раз на революцию, упоминая «вопрос, поставленный ею перед совестью каждого: "Ты с нами или с Богом?"» И он продолжает: «Если бы я не принял стороны Бога, то уж не ностальгия по былому увела бы меня от одержимых вселенской религии наоборот» («des energumenes de la religion universelle a rebours» — любопытная характеристика ранних большевиков) [61]. Это неприятие для себя ностальгии логично для поэта, еще в 1915 г. предрекавшего в мелопее «Человек» огненное обновление и хорошо понимавшего страсть Скрябина к огню. Большевизм был для Вячеслава Иванова, безусловно, прискорбным одичанием, эпидемией «буйственной слепоты, одержимости и беспамятства»(из статьи 1918 г. «Наш язык», подготовленной для запретного сборника «De Profundis» [ «Из глубины»] [62], одного участия в коем, кстати, достаточно, чтобы фактически опровергнуть странное утверждение в бердяевском «Самопознании», будто поэту случалось в советский период быть коммунистом); для всего мировоззрения поэта весьма характерна особая чувствительность к двум аспектам большевистской идеологии — к негации, во-первых, религиозного измерения, во-вторых, исторического измерения человеческой жизни. В Баку Вяч. Иванов будет говорить своему студенту Моисею Альтману, в тот момент весьма пробольшевистски настроенному, что большевизм, отрицая религию, погрешает против Отца, отрицая личное начало, — против Сына, отрицая свободу — против Духа Святого [63]. Его достаточно реалистическое ощущение ситуации культуры в тени надвигающейся советской эпохи остро выражено в четверостишии, вписанном в альбом петербуржца Л. И. Жевержеева 6 октября 1919 г.:
…Богема милая, еще играешь ты,
Как мышка щуплая в кошачьих лапах.
Важно отметить, однако, что определенные формы антибольшевизма, основывавшиеся, и притом однозначно, как раз на ностальгическом аффекте, поэт тоже воспринимал как некое одичание [64]. Об их глашатаях он писал в конце 1917 г.: «Они дерзают говорить за родину, но непохож на голос матери их бездушный, металлический голос» [65].
Попытка Иванова ужиться с советским режимом была не то чтобы уж совсем добровольной; как-никак, ему было отказано в разрешении выехать за границу, когда он просил об этом для лечения его жены Веры Шварсалон, медленно погибавшей от скоротечной чахотки среди тягот разрухи (точнее, разрешение уже было дано и в самый последний момент без мотивировок взято назад, что усиливает кромешность происшедшего). В эту пору поэт навещал обреченную Веру и больных детей в Серебряном Бору; поездки по бездорожью в санях и переживание беды — тема его «Зимних сонетов», поразивших современников чистотой и строгостью тона.
«…Если бы он написал только "Зимние сонеты", и тогда он был бы драгоценнейшим поэтом современности, — читаем мы у одного из самых оригинальных литературоведов и критиков русской эмиграции кн. Д. П. Святополк-Мирского. — В них есть совершенство иного порядка, чем в" Двенадцати", совершенство высокой аскетики. /…/Но замечательно не столько это, сколько чистота проникающего их индивидуального духа. Это очищенное до последней чистоты мужество человека, стоящего лицом к лицу со смертью, Небытием и Вечностью» [66].
Так или иначе, он подрабатывал в 1918 г. в театральном отделе Наркомпроса, а после смерти Веры уехал в Баку, где он, ученик Моммзена, вернулся к оставленной некогда стезе — защитил в качестве докторской диссертации свою книгу «Дионис и прадионисийство» и деятельно, стремясь забыть в педагогическом общении с молодежью свое глубокое горе, участвовал в жизни университета как профессор классической филологии [67]. Его ученики — прежде всего Моисей Семенович Альтман, Виктор Андронникович Мануйлов, Нелли Александровна Миллиор, Ксения Михайловна Колобова — впоследствии хранили благодарную память о своем бакинском наставнике и стремились собственной культурной работой оправдать щедрость, с которой он вкладывал себя в диалог с ними. А для него самого эта щедрость была выходом из внутренней тьмы очень невеселого времени, о котором он тогда же сказал душераздирающие слова, для него очень неожиданные по тону: «Когда полбу ударят грабли, тут уже не до символов. […] Когда Вера умерла, я буквально лишился языка всего и, конечно же, языка символов» [68]. В сумму причин, определявших его состояние, наряду со смертью Веры, наряду с глубочайшим кризисом России, входило также чувство исчерпанности ресурсов творчества — прежде всего, разумеется, символистского, но и шире, несравнимо шире: всякого творчества в традиционном понимании этого слова. «Мы притворяемся, что солнце восходит, но разве оно восходит по-прежнему?. […] Мы дошли до такой грани, когда уже не следует ничего говорить. Только молчать» [69]. Если бы не эти бакинские разговоры, мы, пожалуй, были бы введены в обман той выдержкой, которая была характерна для Вяч. Иванова раньше и позже, и не предположили бы у него такой отчетливой внутренней артикуляции культурно-критического диагноза. Стихов он в это время почти не пишет (отметим, впрочем, очень удачное, по-пушкински лаконичное, суховатое и завершенное в себе стихотворение «Зых»). Приходящееся под конец бакинского периода сочинение либретто для оперетты-мелодрамы «Любовь — мираж?» выглядит прежде всего как игра для заполнения паузы. Характер этой игры не должен нас чересчур удивлять: в конце концов, и оперетта, и мелодрама — жанры очень традиционные, уходящие корнями в дорогую для Вяч. Иванова сферу мифа и карнавала, к тому же поэт был до крайности любопытен к неиспытанному, в духе латинской формулы placet experiri(«стяжание опыта приятно»), и как раз в тяжелую пору любопытство очень поддерживало его витальность. И все же сам автор отозвался о своем либретто в предисловии к нему сугубо отстраненно.
Общение с Альтманом, запечатленное этим заносчивым и амбивалентно-страстным, но прилежным бакинским «Эккерманом», дало Вяч. Иванову случай обновить свой интерес к еврейской традиции. Ученик пригласил поэта на пасхальный седер— и можно себе представить, с каким напряженным сочетанием почтительности и опять-таки любопытства, любопытства неизбывного, этот человек, как никто знавший цену живой старине обряда и жалевший, что не может пойти на поклонение в Иерусалимский храм [70] , вникал и, если позволительно так сказать, выгрывался в обычаи библейской древности. По рассказу Альтмана, Вяч. Иванов прежде всего всем перед ужином умыл руки, а затем стал рассказывать довольно странный сюжет о коллизии между своими сыновними чувствами к родителям и любовью к жене [71], который нет возможности понять иначе как приличествующий атмосфере седерарод агадической притчи (לשמ) [72]. Мы узнаем переводчика Бялика в прошлом — и собеседника Бубера в будущем'. Но прежде всего мы узнаем прирожденного филолога, сходу схватывающего внутреннюю логику даже мало знакомых ему — эллинисту, не семитологу — словесных церемоний [73].
* * *
В 1924 г. Вяч. Иванов, воспользовавшись успехом своей речи на Пушкинских торжествах в Москве, выхлопотал, наконец, разрешение выехать за границу, которое было оформлено как командировка на неопределенный срок, но, по счастью, включало детей. 28 августа все трое отправились в многодневный путь.
1 декабря поэт записывал в своем дневнике: «Итак, мы в Риме. Мы на острове. Друзья в России — rari папtes in gurgite vasto [74] . Чувство спасения, радость свободы не утрачивают своей свежести по сей день. /…/ Но как здесь остаться, на что жить?…» [75]. Заботы за заботами. Но в записи от 5 декабря мы читаем: «Гулял я без пальто — и нагулял себе, несмотря ни на что, запас римского счастья» [76].
То, что Вяч. Иванов направил свой путь именно в Италию, в Рим, достаточно легко объяснить из всей предыдущей биографии поэта: Вечный Город — это место, где были прожиты золотые времена молодости, времена встречи с Лидией. Однако имелись и другие мотивы. О них ясно говорит сын поэта:
«Он мог бы отправиться, например, в Париж: многие русские обретались там. Но он не хотел оказаться в центре эмиграции. Я думаю, что у него вызывало сомнения то ложное подобие России, которое складывалось там из всех этих движений, антидвижений, издательств, журналов; я думаю, что он действительно хотел от всего этого уйти. А Рим был город без эмигрантов. /…/ Далее, он не хотел разрывать с Россией» [77].
В контексте политических аффектов начала 20-х для Вяч. Иванова было по соображениям прагматическогоблагоразумия, как и собственного достоинства, без сомнения обоснованно — не связывать своих жизненных планов с издательствами и журналами русской диаспоры. Все надежды на контакты с внутрисоветским читателем, хотя бы в качестве ученого или стихотворного переводчика [78],были бы в одночасье загублены, формальное обещание, данное при отъезде Луначарскому, который поручился за поэта и выхлопотал-таки ему, после отказа в 1920 г., разрешение покинуть СССР, было бы нарушено; с другой стороны, страсти кипели, и русские беженцы — как пришлось испытать на себе, между прочим, Ходасевичу — не слишком торопились признать за своих людей литераторов, что-то замешкавшихся в «Совдепии», служивших при большевиках, да и выехавших с советским паспортом [79].
«Наэмиграцию /…/ отнюдь не ориентируюсь», — писал поэт вскоре по приезде в Италию, 22 марта 1925 г., Федору Степуну [80]. Конечно, были причины и более глубокие, коренившиеся не в обстоятельствах, а в самом составе личности. Мы уже обсуждали в самом начале статьи глубокое отталкивание самой натуры Вяч. Иванова от психологического комплекса эмигрантства.
С другой стороны, характерно признание из только что процитированного письма Степуну: «В России жить не хочется, п. ч. я рожден ελεΰθεος [ «свободным»] и молчание там оставляет привкус рабства» [81].
* * *
17 марта 1926 г. произошло то, что обычно называют переходом Вяч. Иванова в католичество. Не занимаясь неуместными в контексте этой статьи богословскими рассуждениями, отметим два обстоятельства. Прежде всего, просьба о приеме в евхаристическое общение с католической церковью с точки зрения самого Иванова не означала «перехода» из одного вероисповедания в другое, т. е. «выхода» из православия; в связи с этим он отказался от принятой в те времена для конвертитов процедурыотречения от прежней конфессии, предложив вместо положенных формул прочитать известное место из книги Владимира Соловьева «Россия и Вселенская Церковь» (начинающееся словами «Я, как сын Греко-Русской Православной, истинной и досточтимой Церкви…»). Это создало немалые препятствия, красочно описанные вмемуарах дочери поэта [82]. Его несходство с обычным типом конвертита и неофита выразилось, между прочим, в том, что намерение его детей, в особенности юного еще Дмитрия, пожелавших повторить поступок отца, его скорее обеспокоило; он тревожился, что с их стороны это не будет в достаточной мере органическим событием их личных внутренних путей [83]. Очень колоритно место из письма детям от 12 марта 1927 г. с резкой филиппикой против умаления момента личного выбора в делах веры: «…Идти по духовному пути нужно, неся свой крест, а не быв подхваченным под руки друзьями, которые хотят таким образом дотащить "родного человечка" до апостола Петра, сидящего с ключами у врат рая, и "порадеть" за него, представив ticket на вход в рай, вродепропусков на папское служение. Все это суеверие и узкий фанатизм, — вздор да и только» [84]. Далее, для самого Вяч. Иванова этот шаг был итогом раздумий весьма многолетних — тридцатилетних, как говорит он сам в письме к сыну [85], — о чем его творчество и свидетельства современников говорят предостаточно. В его стихах католические темы присутствуют, начиная с обоих первых сборников; в его многочасовых римских дискуссиях 1912 г. с Эрном (с которым он, в общем, не любилбыть несогласным), — его темой была, по свидетельству дочери, апология католичества [86]; в статье 1914 г. «Славянская мировщина» (как и в цитированным выше стихотворении того же периода о св. Вячеславе, светильнике двух церквей), он утверждает о славянофильски идеализируемой Чехии, что она «как бы не ведает, в своем молитвенном созерцании, внешнего и поверхностного разделения единой Церкви между запечатленным вертоградом Востока и выявленным и раскрытым в своем историческом делании христианством Запада» [87]. А 20 июня 1921 г. он грозился Альтману: «Поеду за границу и поступлю монахом в Бенедиктинский орден» [88]; некоторая контекстуально обусловленная несерьезность тона не мешает очевидности относительно предмета, около которого постоянно кружились мысли Иванова.
Уже в 1944 г. поэт занесет в свой стихотворный дневник стихотворение, которое начинается любовной и любующейся характеристикой обрядов римского церковного года, а завершается личным раздумием о шаге, который он сделал восемнадцать лет тому назад, присоединившись к католической церкви. Но в середине, между тем и другим, развито сопоставление двух типов народной набожности — итальянско-католического и русско-православного.
…Где бормочут по-латыни,
Как-то верится беспечней,
Чем в скитах родной святыни, —
Простодушней, человечней.
Здесь креста поднять на плечи
Так покорно не умеют,
Как пред Богом наши свечи
На востоке пламенеют…
Нет, это ничуть не похоже на агрессивный пыл конвертита; сопоставление проводится всерьез, без однозначной тенденции. Да, «простодушней» и «человечней»; однако чего-то все же «не умеют». «Беспечней»— нельзя сказать, чтобы очень похвальное слово; а ведь оно образует здесь не только рифму, но и что-то вроде окказионального синонима к «человечней».
В его переписке с Семеном Франком (уже в 1947 г., в самом конце жизни поэта) мы с интересом встречаем наряду с защитой роли Рима в современном мире — отголоски отнюдь не отброшенных поэтом славянофильских воззрений (вплоть до сомнительного, но характерного тезиса, согласно коему «латинство /…/ исказило душу Польши»).
Между тем вопрос о том, как прокормить себя и детей, оставался нерешенным. Каирский университет предложил было место профессора римской литературы; Вяч. Иванов, как он рассказывает в письме С. Л. Франку от 3 июня 1947 г., «принялся упражняться в английском языке» [89],— однако его тогдашнее советское гражданство оказывается, увы, было решительно неприемлемым для тамошних властей. Возникает предложение ехать в Аргентину, чтобы работать в университете преподавателем латыни и греческого. Как мы убеждаемся из писем дочери, перспективы были довольно-таки устрашающими для человека, как-никак, на седьмом десятке жизни: «…Испанская первобытность. Преподавать надо сразу по-испански— иначе не поймут. Такая глушь и страшит меня — и привлекает!» [90] . Упражняться в испанском языке было труднее, чем в английском; житейские реалии и там, и там обещали быть непредсказуемыми. Египет он хотя бы когда-то посещал в молодости как путешественник, но вообразить себе Аргентину было уж вовсе невозможно. Чем более вдумываешься, тем более поражает настроение радостной готовности к пути, которое мы встречаем и в цитированном выше письме — восклицательный знак после слов «…и привлекает»! — и особенно в октаве, написанной на исходе 1926 г., в самый канун новолетия.
Встречаю новолетие в постели.
По соннику, «постель» пророчит «путь».
Путеводи ж мои скитанья к цели,
Грядущий Год! Вожатым верным будь, —
Чтоб вновь моря вокруг меня синели,
Чтоб соль зыбей вдыхала вольно грудь,
И чуждый брег, загадочно-туманный,
Возник из волн землей обетованной.
Однако Провидение явно не желало, чтобы он оставил Европу. Очередной переворот в Аргентине сделал приезд невозможным. По счастию, к той поре, когда под новый год поэт размечтался в постели о морском пути, он уже имел, наконец, постоянную работу, и притом в Италии — в павийском Collegio Borromeo. Правда, дети — по семейному именованию «коты», при титуле «Capogatto» («глава котов») для самого Вячеслава, — должны были оставаться в Риме (где заботы о них приняла приехавшая в 1927 г. О. А. Шор), и даже визит являлся некоторой проблемой; педагогической работы было очень много, и притом по большей части, как кажется, скорее «туторской», нежели приличествующей профессору, — но Иванов был верен себе, запомнив из впечатлений павийской поры только добрые: любовь пригласившего его Дона Рибольди к русской культуре, да еще «дивное здание XVI века» [91], в котором трудился, а также и проживал. В 1934 г., однако, место Иванова в Колледжо Борромео было упразднено по соображениям экономии. Поэт вернулся в Рим (где вскоре отказался от становившегося все более бессмысленным советского гражданства [92]); между тем его избрали было ординариусом Флорентийского университета, но эта заманчивая перспектива, увы, только поманила, — фашистское министерство захотело взять на открывшуюся вакансию члена партии. Некоторое время приходилось перебиваться случайными приработками в экзаменационных комиссиях; затем ему предложили преподавать церковнославянский язык в католических учебных заведениях — в Руссикуме, затем и в расположенном рядом Ориентале. В чьи-то жизни вошел его образ, забыть который нелегко [93].
Интересным переживанием еще павийского периода была встреча с еврейским религиозным философом и писателем Мартином Бубером, по универсалистскому складу своей культуры и по своей связи с немецким религиозным символизмом отчасти под стать Вяч. Иванову. (Можно сказать, что Иванов и Бубер — параллельные случаи двойной укорененности; у Иванова его русскость соединяется с германской и вообще европейской культурной нормой примерно на тот же манер, что у Бубера — его ашкеназийские корни.) В письме детям от 26 марта 1927 г. поэт рассказывает о встрече: «Бубер оставляет сильное впечатление: это еврейский праведник с глазами, глубоко входящими в душу, — "истинный израильтянин, в котором нет лукавства", как сказал Иисус Христос про Нафанаила. Понимает он все душевно и умственно с двух слов. Он полон одной идеей, которая и составляет содержание умственного движения, им возглавляемого: эта идея — вера в живого Бога, Творца, и взгляд на мир и человека, как на творение Божие. На этом, прежде всего, должны объединиться, не делая в остальном никаких уступок друг другу, существующие в Европе исповедания» [94] . И он должен был запомниться Буберу, уже после войны спрашивавшему своего европейского корреспондента: «Жив ли Иванов? Где он? Мне хочется написать ему» [95].
* * *
В Италии Вяч. Иванов поначалу почти перестал писать стихи. Правда, к осени 1924 г. относится большая удача — «Римские сонеты», воспевающие с нерастраченным юношеским восторгом красоту Вечного Города; но затем на долю поэта надолго достаются «молчанья дикий мед и жесткие акриды».
Начиная с 28 сентября 1928 г., его главным литературным занятием становится работа над прозаической «Повестью о Светомире царевиче». В центре этого единственного в своем роде прозаического эпоса стоят две фигуры: Лазарь-Владарь, воплощение земной Руси, кристаллизирующейся вокруг излучений и энергий власти, и его сын Серафим, воплощение Святой Руси, отстраняющей от себя соблазн власти. Владарь, который суммирует в своем лице мифологически сконцентрированную историю московского «собирания земель» едва ли не от Ивана Калиты и уж точно, что от Димитрия Донского по меньшей мере до Иоанна III [96], одновременно наделен совершенно очевидными автобиографическими чертами. В целом ряде центральных, очень интимных деталей — от Егорьева урочища и Егорьевой криницы, соответствующих Георгиевскому переулку и церкви св. Георгия как месту крещения Вяч. Иванова (как сказано в «Младенчестве»: «Я у Георгия крещен…»), от пересекающегося с Георгиевским переулком Волкова переулка (и воя волчьей своры за оградой лежащего тут же Зоологического сада, нынешнего Московского зоопарка…) — до возвращенияГориславы в Отраде как эха возвращения Лидии Дмитриевны в своей дочери Вере Шварсалон: символические вехи жизни Владаря предстают как читаемая криптограмма жизни Вяч. Иванова. Понятно, какие пересечениябиографии поэта и анналов Серебряного века с историей Московской Руси становятся возможны благодаря искусной переработке сведений о браке Иоанна III с византийской невестой или о характерных для этого государя в ранний период его царствования — когда его приближенные, как сказывает преп. Иосиф Волоцкий, «звездозаконию учаху и по звездам смотрети и строити рождение и житие человеческое», — каббалистически-астрологических увлечениях:
Бормотал невнятное Хорс в дыму курений и каменье самоцветное перед светильниками пересыпал.
А Владарь, куревом обаянный, насупротив сидючи, на игру ворожейную глядючи, кристалл простой в россыпи приметил, как вода светлый, словно со дна кладезя прозрачного кольнул его в сердце острия золотого мгновенный луч /…/
И укрепившись духом, прислушался к волхву говорящему:
«Не надобно тому звездогадание, кто здесь слышит, как дух его инде беседует с духами миров иных.
Ничего боле звезды тебе возвестить не имеют: взирают на деяния твои, как свидетели, делу непричастные, и безмолвствуют, как судии, полукругом сидящие, доколь длится тяжба.
Слово было тебе дано; от тебя мир ожидает слова. Как наречешь, так и обречешь; на что поглядел, тем и завладел; чего изволил, то и вынудил.
Пустынно самодержавца одиночество. Покинут тебя малые твои; один будешь в седой степи с белого камня лобного несметное пасти овец стадо. Чего молил, то и вымолил.
Мне же, послу к тебе от архонтов звездных, обещайся по уходе моем храмину сию и все подходы к ней наглухо замуравить, чтобы и следа на осталось от Хорса-волхва».
Даже свобода воли, так выразительно описываемая словами Хорса как атрибут царственного одиночества властителя, заставляет вспомнить, в каких словах обсуждалась та же свобода между Лидией и Вячеславом применительно к собственному их бытию поэтов. Между тем на фоне русской литературы этот казус — Владарь как маска и обличие самого автора, иначе говоря, олицетворение государственности как субститут поэта — предстает достаточно необычным. Русские поэты, из века в век ведшие свою тяжбу с неласковой к ним властью, так любили противопоставлять свой удел, вольный, тихий, якобы безвластный и потому невинный, — демоническому ужасу власти. Вяч. Иванов не может позволить себе этих наивных игр; с духовным реализмом, глубина которого должна быть по достоинству отмечена, он видит бытие поэта не как праведно-безвластное, но как царственно-властное; не как противоположность, но как аналог и эквивалент сверхчеловечески-нечеловеческому кипению государственных, державных стихий. Никак не поэт, владеющий особого рода мощью, да еще магической, и расплачивающийся за нее тяжелыми духовными опасностями, а только святой, безвластно-невинное юродивое дитя, может преодолеть, очистить и оправдать бремя вины, которое тяготеет и над судьбами истории, и над путями творчества. Но такое оправдание по сути своей внеположно, трансцендентно всему, что поэт знает по себе самому о себе самом — и, в соответствие с вышесказанным, о властелинах мира сего. О трансцензусе в конечном счетеможно знать не из эмпирии, но только верой. Не следует, конечно, преувеличивать: история русской святости от первых «блаженных» до преп. Серафима, имя которого дано Светомиру, народная поэзия русских «духовных стихов», столь любимые русской традицией образы ненасильственной жертвенности (например, свв. Борис и Глеб), мученического младенчества (например, царевич Димитрий) и светлого юродства (самые различные святые, отнюдь не только юродивые в смысле терминологическом), — все это давало материал для конкретизирующей разработки образа Царевича. И все же образ этот по самому своему заданию, не только агиографическому, но и прямо эсхатологическому, едва ли вполне случайно остается видимым для читателя скорее издали, чем вблизи. Ведь это ни больше, ни меньше, как видение умопостигаемой Святой Руси, существенно отличное от всего, что дает эмпирическая русская история, хотя бы и переработанная в сгущающий миф; употребляя выражение, по другому поводу употребленное о. Павлом Флоренским, не эмпирия, а эмпиреи. Недаром часть «Повести…», написанная самим Вяч. Ивановым, знаменательно завершается текстом, даже в чисто языковом отношении трансцендирующим то равновесие русских и церковнославянских элементов, которое характерно для произведения в целом. Текст этот имеет заглавие: «Послание Иоанна Пресвитера Владарю царю тайное». Как известно, овеянное легендами христианское царство в Индии, будто бы управляемое царем-священником Иоанном (в котором снято противоречие между властелином и мистиком, т. е., по Иванову, между миром Владаря и миром Светомира), было в Средние Века любимейшим локусом теократической утопии [97]; дошли на разных языках версии послания, будто бы адресованного монархом этого неведомого царства византийскому императору Мануилу. Есть и церковнославянские версии, развивавшиеся в древнерусском ареале; одна из них начинается словами: «Аз есмь Иоанн царь и поп, над цари царь, имею под собою 3000 царей и 300. Аз есмь поборник по православной вере Христове. Царство мое таково: итти наедину страну 10 месяць, а на другую немощно доитти, занеже тамо соткнуся небо с землею…» [98].Этот текст заставляет вспомнить, конечно, и Китеж, и Беловодье, и прочие неведомые земли, поиски которых связывались для русской традиции юродивого странничества с исканием утраченной гармонии.
Над «Повестью о Светомире царевиче» поэт работал до самой кончины; перед смертью, по свидетельству Ольги Шор-Дешарт, пестуньи и собеседницы римских лет, он велел ей «спасти» повесть, т. е. дописать ее [99]. Может быть, этому знатоку и любителю Новалиса сознательно или бессознательно припоминалось, как друзья немецкого романтика посмертно издали его «Генриха фон Офтердингена», приложив перечень тем, которые по его замыслу должны были последовать. Так или иначе, последняя мысль была о «Светомире». Но работа над прозой однажды, среди горестей Второй мировой войны, была прервана на год нахлынувшей волной стихов: так возник «Римский дневник 1944 года» — благодарный итог жизни. В нем мы встречаем, среди раздумий и воспоминаний, среди сдержанных поэтических записей о поре голодовок и бомбежек, неумолкающую похвалу Риму — даже несносной для многих жаре Вечного города:
Все никнут — ропщут на широкко:
Он давит грудь и воздух мглит.
А мой пристрастный суд велит
Его хвалить, хвалить барокко,
/…/ Цвет Тибра, Рима облик весь… [100]
И смерть пришла через пять лет без малого в такую же римскую летнюю жару, и была она такой, чтобы стилистически безупречно завершить его жизнь:
«16 июля 1949 года был жаркий, ослепительный, летний римский день. Вячеслав впадал в забытье, как бы тихо засыпая. За час до смерти, когда я подошла к нему, он, не открывая глаз, ощутил, что я около него, и слабым, но еще покорным ему движением начал легко, легко гладить мне руку. Он умел любить. Любить до конца.
Он умер как бы сознательно, почти сознательно…» [101].
* * *
Творчество Вяч. Иванова очевидным образом связано с сюжетом его жизни; столь же очевидным образом оно, вообще говоря, эволюционировало, развивалось, а значит, было подвержено некоторым изменениям. В «Сог ardens» поэт более опытен, более искушен, нежели в первых двух сборниках; в «Римском дневнике 1944 года» он достигает большей свободы, чем ранее. И все же при сравнении с другими авторами поражает редкая стабильность его тем и творческих установок. Начиная от той черты, которую провел он сам, придирчиво отбирая среди накопившегося за десятилетия материала тексты для «Кормчих звезд» и «Прозрачности», и которая отделяет «канон» — от кануна, историю его творчества — от «доисторических» начинаний, и затем до самого конца, инварианты решительно преобладают над всем вариативным. Сказал же он сам на причудливом макароническом языке: «Поистине, я semper idem [всегда тот же], хотя, конечно, в силу законаπάντα ρεϊ[все течет] и самоутверждения моей жизненности, κ́αγώ ρέω [и я теку]» [102]. Исследователь обязан рассматривать как возможный контекст для формального анализа и толкования каждой строки Вяч. Иванова — всю совокупность им написанного, не смущаясь хронологическими дистанциями.
Поэтому представляется не только допустимым, но и необходимым перейти от «диахронического» рассмотрения перипетий человеческой и творческой биографии поэта к «синхроническому» анализу системы символов этого символиста par excelence, понимавшего символ совершенно в духе Шеллинга [103], — именно как системы.
Ибо символы составляют у Вяч. Иванова систему такой степени замкнутости, как ни у кого из русских символистов. Унего в принципе нет двух таких символов, каждый из которых не требовал бы другого, не «полагал» быего (в философско-диалектическом смысле слова «полагание»), — естественно, с различной степенью настоятельности; нет двух символов, которые не были бы связаны цепочкой смысловых сцеплений, примерно так, как связываются понятия в диалектике Гегеля и особенно того же Шеллинга («Konstruktion») [104].Это значит, далее, что каждый символ занимает четко определенное место по отношению к другим символам. Это значит, наконец, что каждое из значений каждого символа (который, как многократно подчеркивал Вяч. Иванов, многозначен) обращено в направлении каких-то иных символов этой же системы, причем именно к ним, а не к другим, или, если к другим, то только через них.
Замкнутая система символов, конечно, не может быть отработана и выявлена ни на пространстве одного стихотворения, ни даже на пространстве одного поэтического цикла, одного поэтического сборника (уровень организации, весьма важный для всех символистов). Нет, для нее, этой системы, нужна вся сумма творчества поэта — от момента обретения им себя [105] и до конца. Иначе говоря, чтобы реализоваться, замкнутая система символов необходимо должна оставаться в продолжение творческой биографии поэта в принципе стабильной. Она поистине замкнута еще и в особом смысле: поэт смыкает ее вокруг себя, как магический круг, из коего он не намерен выходить («Дея чары и смыкая круги…»). Читателя система тоже принимает вовнутрь себя, настраивая на специфический тип восприятия. Недаром молодой Мандельштам писал Вяч. Иванову, что читатель соглашается с ним примерно так, как путешественник принимает католический смысл собора Notre Dame «просто в силу своего нахождения под этими сводами» [106]. Система символов Вяч. Иванова и задумана как своды, смыкающиеся, сходящиеся с разных сторон и над поэтом, и над его читателем — тем читателем, которого его поэзия имеет в виду. (Отметим, что присутствие и соучастие читателя особо тематизируется ивановской теорией символического творчества, ориентированной сугубо диалогически [107] — недаромМ. Бахтин, теоретик «диалогизма», сознавал себя наследником именно Вяч. Иванова.) Образ смыкающегося круга возникает, кстати, в том же письме Мандельштама («астрономическая круглость Вашей системы»). Архитектуру символов Вяч. Иванова, как архитектуру куполов Айя-Софии, может воспринять только взгляд изнутри, не взгляд извне.
Мы сказали, что замкнутая система символов есть система стабильная; мы ответили этим на вопрос, почему ни у одного русского символиста система символов не была и не могла быть в такой степени замкнутой, поистине «системной», как у Вяч. Иванова.
О символизме «Скорпиона» в противоположность символизму «Ор», о том символизме, каковой в терминологии Иванова называется «идеалистическим» в противоположность «реалистическому» и который шел от «соответствий» Бодлера, а не от умозрений того же Новалиса и Владимира Соловьева, в этом контексте не стоит много говорить. Если символы не имеют онтологического статуса, они связываются только по принципу «соответствий», отражаясь друг в друге, как наведенные друг в друга зеркала. «Только мимолетности я влагаю в стих» — девиз Бальмонта. «Хочу, чтоб всюду плавала / / Свободная ладья» — девиз Брюсова, которого Тынянов назвал «путешественником по области тем» [108]. Сложнее обстоит дело с т. н. младшими символистами — Александром Блоком и Андреем Белым, соловьевцами, как и Вяч. Иванов.
Когда в связи с Блоком пытаешься подумать о словосочетании «замкнутая система», срабатывает ассоциация по противоположности, принуждающая вспомнить его ранние строки: «Мне друг один — в сыром ночном тумане / / Дорога вдаль». Дорога ведет вдаль, и лежит она в тумане,т. е. ее невозможно обозреть, невозможно увидеть наперед, какова ее конечная цель; зато видно, от чего она уводит, — от всего, что еще вчера было домом. Пафос движения без оглядки и без возврата («…никто не придет назад»), отрицающий всякую стабильность, размывающий всякую замкнутость, — для поэзии Блока одновременно важнейшая объективная характеристика и столь же важная субъективная самохарактеристика, т. е. лирическая тема. Блок без возвратауходил из покоев своей Прекрасной Дамы — в лиловые миры, чтобы повстречать Незнакомку средь пошлости таинственной, и он же восставал против этих лиловых миров, чтобы увидеть Куликово поле; нет и не может быть духовного «места», которое собрало бы его символы воедино, сделало их совместимыми. За переосмыслением их каждый раз стоят драматические разрывы с прежними ценностями. Поэтическая биография Вяч. Иванова характеризуется гораздо большей неизменностью своих ориентиров, своих «кормчих звезд»;характерно, в частности, что у него историческое время играет роль ограниченную, а физический, биографический возраст — еще более ограниченную. В организации лирики Блока как целого фактор временной необратимости участвует весьма наглядно; сам Блок понял три тома своей лирики как «трилогию вочеловечения» [109] , и трилогия эта выглядит как динамичная гегелевская триада с тезисом, антитезисом и синтезом — сплошное «отрицание отрицания». А когда мы говорим о поэзии Вяч. Иванова, блоковскую дорогу должны сменить другие метафоры: исток — возврат. — затвор. В полноте истокавсе уже дано изначально, все «вытекает» оттуда, распространяясь, разливаясь, но не меняя своего состава. В плане лично-биографическом истокесть младенчествокак образ вечного и неизменного Рая: «Эдем недвижимый, где вновь / / Обрящем древнюю любовь…». В плане литературно-биографическом исток— это первый сборник, «Кормчие звезды», где в свернутом предварительном виде уже присутствует вся ивановская топика и поэтика. (Напротив, никто не станет искать в блоковских «Ante lucem» и «Стихах о Прекрасной Даме» содержание «Ямбов» или «Двенадцати»!) Наконец, в плане метафизическом исток— это realiora, то, что реальнее реального: платоновская идея, аристотелевская энтелехия, поступательной реализацией которых ощущает себя поэзия Вяч. Иванова. Но это значит, что истокесть одновременно цель — строго по Аристотелю. «Пасомы целями родимыми…», — для современного уха строка звучит вызывающе странно, но тем точнее выражена в ней самая суть аристотелевского учения о целевых причинах. Итак, движение идет от истока, но также, что еще важнее, еще сокровеннее, к истоку, и это — возврат.
Как тростнику непонятному,
Внемли речам:
Путь — по теченью обратному
К родным ключам…
В этой теме возврата, палирройи («обратного течения») — тайна ивановского восприятия временного измерения жизни. Логика этой темы приводит поэта к принципиальному утверждению низшего онтологического статуса всего текучего сравнительно с пребывающим:
…Не из наших ли измен
Мы себе сковали плен,
Тот, что временем зовет
Смертный род?
Время нас, как ветер, мчит,
Разлучая, разлучит, —
Хвост змеиный в рот вберет
И умрет.
В контексте этого поэтического «обличения» времени как ухода от памяти и верности, а значит, от бытия, обретает символический смысл предпочтение затвора — дороге (имевшее, разумеется, для поэта, которому в это время было уже под восемьдесят, и совсем буквальный смысл):
Иди, куда глядят глаза,
Пряма летит стрелой дорога!
Простор — предощущенье Бога
И вечной дали бирюза.
……………………………………
Исхожены тропы сухие,
И сказку опровергла быль. /…/
И ныне теснотой укромной,
Заточник вольный, дорожу,
В себе простор, как мир огромный,
Взор обводя, не огляжу…
«Пряма летит стрелой дорога» — трудно не вспомнить из Блока ряд мест, где путь уподоблен именно стреле, например: «Наш путь — стрелой татарской древней воли // Пронзил нам грудь» [110]. Вяч. Иванов чувствует себя принадлежащим себе [111] в укромной тесноте дома, которая есть для него место и символ собирания себя, преодоления того, что в философии Гегеля именуется «дурной», или «негативной», бесконечностью; таков поздний, окончательный итог опыта человека и поэта. Итог блоковского опыта, десятки раз сформулированный в его прозе и стихах, совершенно противоположен: «Не найти мне места в тихом доме / / Возле мирного огня!» В одной из статей Блок страстно славит бегство из дому (из стабильного жизненного круга) и бегство из города (от культурной памяти), как радостное и освобождающее забвение, выход к простоте. «Простота линий, простота одиночества за городом. В бегстве из дому утрачено чувство собственного очага /…/ В бегстве из города утрачена сложнаямера этой когда-то гордой души, которой она мерила окружающее. И взор, утративший память о прямых линиях города, расточился в пространстве». Стать как стезя значит для Блока в некотором смысле все забыть и все разлюбить [112]. Словно отголосок этих мотивов слышится в голосе Гершензона, спорящего с Ивановым в «Переписке из двух углов». Для Гершензона единственная возможность обновления — в том, чтобы забыть, окунуться в Лету, совершить некий исход из данностей культурной традиции. Для Иванова, напротив, горизонтали уводящего пути противостоит вертикаль, связывающая на каждом месте глубины памяти с высотой цели. О культурной традиции у него сказано: «Культура — культ предков, и, конечно, — она смутно сознает это даже теперь, — воскрешение мертвых» [113].
Он вновь и вновь вспоминает любимые им слова престарелого Гёте из его «Завещания»:
…Das Wahre war schon längst gefunden,
Hat edle Geisterschaft verbunden;
Das alte Wahre, faβ es an!
(В его собственном прозаическом переводе: «Истина давно обретена и соединила высокую общину. Ее ищи себе усвоить, эту старую истину»)
К предпосылкам замкнутости символической системы Вяч. Иванова его культурный традиционализм — «сыновнее почтение к истории», как выражался Гершензон — имеет самое непосредственное отношение, ибо систематаких масштабов не может быть выстроена силами одного человека, без вступления в права наследования над огромным «тезаурусом» символики традиционной. Здесь поэту нужна была не только профессиональная привычка филолога присматриваться к семантике всего значащего, но и вера в культуру как воскрешение мертвых, в реальность своего единения с отцами:
Так сонм отшедших, сонм бесплотный
В живых и мыслит, и поет…
Дело не в том, что Вяч. Иванов — поэт «книжный»; Андрей Белый — тоже «книжный», но он не склонен к терпеливому вниканию в какую бы то ни было объективную данность, ни к нужному для этого замедленному темпу мысли и эмоции; нервно берет он в руки символы из общечеловеческой сокровищницы и тут же выпускает их из рук, не давая себе времени в них вглядеться. Вот очень простой пример из великолепной поэмы Андрея Белого «Первое свидание»: «О, осиянная Осанна / / Матфея, Марка, Иоанна!…»Если бы это были стихи Вяч. Иванова, мы имели бы право и обязанность спросить себя, почему, на основании каких специальных соображений и размышлений в списке евангелистов пропущен Лука. Это не могло бы быть без причины, потому что в ивановской перспективе традиционные имена-символы не сливаются, как здесь, в неразличимый ряд с неопределенным значением, но каждое из них по отдельности значит то, что оно значит. Но перед лицом текста Андрея Белого такой вопрос смысла не имеет. Полная случайность выбора имен — Матфей, Марк, Иоанн — лишний раз подтверждена тем обстоятельством, что непосредственно перед этим упоминаются бык, лев и орел, т. е. символы евангелистов Луки, Марка и Иоанна (с опущением, напротив, Матфея). Выбор продиктован фонетикой и метрикой; в плане семантики и семиотики имена «Матфей» и «Лука» для Андрея Белого вполне взаимозаменимы. Ему важно создать нужное настроение сакрального и впечатляющий звуковой образ; лихорадочный темп поэмы не дает ни автору, ни читателю задуматься о более скрытых оттенках значения. Триимени брошены в читателя порывом ритма, и весь их расплывчатый смысл в это же мгновение без остатка выдан; больше вникать не во что. Вот еще один пример из той же поэмы: «Вы, сестры — / / — Ты, Любовь, — как роза, / / Ты, Вера, — трепетный восторг, / / Надежда — лепетные слезы, / / София — горний Сведенборг!)…». Имена, фигурирующие в приведенных строках, взяты из церковного календаря: Вера, Надежда, Любовь и мать их София — римские мученицы раннехристианских времен, память которых празднуется 17 сентября, в день, весьма важный для русского обихода. В то же время Андрей Белый очевидным образом связывает имена сестер с тремя добродетелями по апостолу Павлу (I Кор. 13, 13), а имя «София» — с «софиологией» Владимира Соловьева, в тени которого стоит вся поэма. Но почему «Премудрость Божия» так энергично сближена с именем шведского визионера и теософа XVIII в. Сведенборга? Все конкретные коннотации имени «Сведенборг» едва ли существуют для поэтики Белого; семантика сведена к скудному минимуму — нечто мистическое, духовидческое, — зато торжествует фонетика. Но когда то же самое имя «Сведенборг» появляется у Вяч. Иванова, причем в стихотворении шуточном, написанном «на случай» и не вошедшем ни в один сборник, значенияимени оказываются куда конкретнее и полнее. Описывая встречу нового 1905 г. [114], поэт, во-первых, говорит о попытках в обществе молодого тогда Эрна угадать будущее России в начинающемся роковом году (что заставляет вспомнить об актах ясновидения Сведенборга, провидевшего, по известной версии, пожар в Стокгольме), во-вторых, упоминает шведскую этимологию фамилии Эрна, после чего только естественно, что Эрн назван «юным Сведенборгом». Историческое имя, превращенное в символ, употреблено в поэтической шутке Вяч. Иванова с большей обдуманностью и семантической точностью, чем в куда более серьезных строках Андрея Белого…
* * *
Вообще говоря, русский «модерн» в поисках новых, еще не использованных возможностей, выявляет два крайних способа обращаться со словесным материалом. На одном полюсе — стремление преодолеть обособленность слов, сливая его с другими словами, растворяя в захватывающих ритмико-аллитеративных вибрациях; в таком случае ни созвучия, ни ритм не должны давать «спотыкающихся» остановок, а потому созвучия ориентируются на господство гласных и сонантов, а ритм — на плавность. Именно этим удивлял своих ранних читателей Бальмонт:
Лебедь уплыл в полумглу,
Вдаль, под луною белея,
Ластятся волны к веслу,
Ластится к влаге лилея.
(1899)
Слова идут, так сказать, не поштучно, а на вес, не в розницу, а оптом: они перерождаются в единообразное переливающееся журчание и струение звука «л», растворяются в нем, и каждое единичное слово со своим происхождением, со своей историей, со своим резко очерченным смыслом и своими специфическими коннотациями перестает приниматься в расчет. Конечно, Бальмонт предложил довольно простенький вариант этой тенденции. В более сложных разработках мы встречаем ее у Блока («И приняла, и обласкала, / / И обняла, //И в вешних далях им качала // Колокола» [115]), у Андрея Белого («Там в пурпуре зори, там бури — и в пурпуре бури…»); для постсимволизма плавное движение сонантов несколько скомпрометировано, поэты стремятся восстановить в правах более резкие согласные звуки, но само по себе превращение слов в слитный фонически-семантический вихрь, отменяющий автономию отдельного слова, весьма характерно хотя бы для раннего Пастернака («И шальной, шевелюру ероша, / / В замешательстве смысл темня…»). Сквозной образ поэзии Блока — метель; сквозной образ поэзии Пастернака — снежные хлопья илиливень. Все контуры размыты — как очертания вещей, так и очертания слов.
Напротив, у Вяч. Иванова выявляет себя совершенно противоположная тенденция: для него драгоценнее всего как раз очертания слова как неделимой и отделенной от всего иного единицы смысла, как полновесного кристалла субстанции мифа. Слово в его стихах замкнулось в себе и удерживает в себе всю полноту своего исторически выкристаллизовавшегося значения. Читателя надо пригласить и даже принудить к размышлению над этой смысловой полнотой. Для этого его необходимо остановить, задержать. Отсюда — характерная медлительность стиха Вяч. Иванова, его тяжеловесная неспешность, густота. Она достигается взаимодействием различных средств. Отметим, во-первых, систематическое пристрастие к т. н. сверсхемнымударениям. Окрыленность блоковского стиха, его готовность перейти с шага на бег или полет создается, напротив, возведенными в систему пропусками метрических акцентов, и притом не только в двухсложных, но и в трехсложных размерах, где процент ударных слогов и без того мал; напротив, у Вяч. Иванова трехсложные размеры редки, между тем как ямбы и хореи изобилуют спондеями. Эта стратегия стиха в русском контексте непривычна и может озадачить, даже ошарашить читателя. В свое время столь благожелательный Влад. Соловьев говорил Дарье Михайловне о стихах молодого поэта: «Содержания иногда слишком много, оно давит форму...»; эти слова могут относиться, в числе другого, к специфическому для Вяч. Иванова характеру синтаксиса и ритма, которые не скрывают, а, напротив, акцентируют угловатую перегруженность смыслом. В контексте ивановской поэтики это не слабость, а умысел. Важной своей стороной поэтика эта повернута к примеру стиха эпиграмматического в древнем смысле этого слова — оракульского, лапидарного, сознательно отрывистого, выставляющего на вид свою сжатость, плотность своей словесной материи. Привилегированное место принадлежит у него словам односложным; в этом отношении логический предел чуть не всей его поэзии — осуществленный им экспериментальный перевод строк греческого поэта Терпандра, состоящих исключительно из долгих слогов, а в русском силлабо-тоническом эквиваленте — исключительно из ударных слогов:
Зевс, ты — всех дел верх!
Зевс, ты — всех дел вождь!
Ты будь сих слов царь;
Ты правь мой гимн, Зевс!
Ритмическая организация все время принуждает особо четкого, с усилием, произнесения именно односложных слов; в них концентрируется энергия целого. Приведем еще один стихотворный перевод с греческого — хор из трагедии Эсхила «Персы» (это так называемые ионики — в конце каждой стопы идут подряд по два долгих или, соответственно, по два ударных слога):
Кто найдет мощь медяных мышц
Супротив стать боевых сил?
Богатырь, кто запрудит хлябь
И разбег волн обратит вспять?…
Особая черта поэтического языка Вяч. Иванова — густота и плотность высказывания, заставляющая вспоминать о стародавних традициях такого стиха, задача которого — задать уму загадку.
В примечаниях к острой статье 1908 г. «О "Цыганах" Пушкина» поэт отмечает в числе нападок современной Пушкину критики, между прочим, также и «осуждение заключительных слов Земфиры "Умру, любя", — как "эпиграмматических"»(наряду с «признанием стиха: "И от судеб защиты нет", — "слишком греческим для местоположения"» [116] ). Не ощущается ли за мгновенным, но цепким вниманием Вяч. Иванова к этим фактам литературной полемики двадцатых годов прошлого столетия чего-то большего, нежели простая любознательность полигистора, — личной заинтересованности, выразимой в латинских словах: «tua res agitur»?Нет ли некоей части в наследии старой русской поэзии, которую сознательно решился воспринять Вяч. Иванов и от которой, в общем, отказывались его современники? Не об этом ли выборе поэта говорит его живейшая интерпретаторская и переводческая заинтересованность в столь же эпиграмматическомслове — «Предстала…»из стихотворения Баратынского на смерть Гёте? [117]
Прежде, чем попытаться ответить на этот вопрос, задумаемся о точном объеме понятия «эпиграмматического».
В современном русском usus'e понятие это характерным образом раздваивается. Научный обиход сохраняет память о древнем значении термина «эпиграмма»: буквально «надпись», отсюда — особенно лапидарный поэтический текст; всемерно подчеркиваемая сжатость, заметное для читателя качество сжатости как центральная техническая задача, порождает ряд признаков, о которых мы еще будем говорить и из которых сейчас же назовем сознательную отрывистость, реализуемую в определенной жесткости синтаксиса, хорошо согласуемую с такой жесткостью афористически заостренную сентенциозность, pointe, а довольно часто — многозначительную игру мыслей и слов, «каламбур», позволяющий выразить мысль особенно кратко и одновременно подчеркнуть эту краткость и сделать ее наглядной, чувственно переживаемой (по бессмертному выражению А. П. Сумарокова в «Эпистоле о стихотворстве» 1748 г., эпиграммы «тогда живут красой своей богаты, / / Когда сочинены остры и узловаты»;наконец, античная, греко-римская эпиграмма имела метрический признак, укладываясь чаще всего в т. н. элегические дистихи, т. е. парные чередования гекзаметров и пентаметров (редкой альтернативой, память о которой почти не понадобится нам для дальнейших рассуждений, были шестистопные ямбы). Однако все эти аспекты объема понятия «эпиграмма» существуют только для обихода ученого и теоретического. Вне этой сферы слово «эпиграмма» однозначно применяется к стихотворениям насмешливого, сатирически-юмористического свойства. Как у того же Сумарокова: «…Исила их вся в том, / / Чтоб нечто вымолвить с издевкою о ком».
Аналогичное сужение понятие эпиграммы получило в других новых языках. Почему так случилось? Очевидно, какой-то свет на это проливает только что употребленное нами и столь легкомысленно звучащее французское слово «каламбур». В древних литературах игра сходных по звучанию или однокоренных слов, выступающая на фоне подчеркнуто жесткого синтаксиса, никоим образом не закреплена ни за сатирой, ни за «легкой» поэзией, но, напротив, весьма часто является сакральным убором пророчества или премудрости, как можно видеть в древнееврейском подлиннике многих библейских текстов или в древнегреческом подлиннике фрагментов Гераклита; ориенталисты сообщают нам, что так же написаны священные книги восточных религий, например, «Дхаммапада». Однако эта практика мало соответствует новоевропейскому представлению о серьезности; недаром же игра, когда-то приемлемая для библейских пророков, получила непочтенное название «каламбур». Процесс, о котором мы говорим, не завершился, многозначительные переклички звуков и корней никогда не оказывались полностью вытеснены из области серьезного. Еще Цветаева, кстати, не боявшаяся, а искавшая синтаксической жесткости, совершенно всерьез кончает стихотворение из «Лебединого стана» типичным каламбуром:
…И в словарях задумчивые внуки
Со словом: «долг» поставят слово: «Дон».
Что касается Вяч. Иванова, он готов был сознательно процитировать в серьезном контексте каламбурную рифму из пушкинского «Евгения Онегина» — «прав» как Genit. Plur. от существительного «право» и «прав» как прилагательное в краткой форме и в функции сказуемого («Защитник вольности и прав / / В сем случае совсем не прав»), да еще усугубить каламбурность, подпустив между обоими «прав» в позиции женской рифмы еще дательный падеж «праву»; мы имеем в виду, конечно, стихотворение «Скиф пляшет» из «Парижских эпиграмм», которое приведем целиком чуть позже.
И все же древние, архаические свойства эпиграммы, среди которых наряду с каламбурностью и даже прежде нее надо иметь в виду «нарочитость», откровенную, честную сделанность, подчеркнутую сжатость и плотность словесной материи и то, что мы называем жесткостью синтаксиса, в целом годились Новому времени для шутки и насмешки, для «эпиграммы» во втором смысле. Только в качестве ученого занятия, скажем, обоих протагонистов веймарской классики встречаем мы в изобилии совершенно серьезные эпиграммы по античному образцу, написанные элегическими дистихами. Куда реже такие эпиграммы у нашего Пушкина, но встречаются они и у него; самый известный пример — «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи…».
Когда мы обращаемся к Вяч. Иванову периода «Кормчих звезд» и «Прозрачности», нас для начала поражает изобилие и разнообразие форм, в которых оказывается представлено эпиграмматическое начало. Первые сборники поэта предлагают по меньшей мере три таких формы.
Во-первых, это эпиграммы, написанные по античному образцу, с чередованием гексаметров и пентаметров:
Кличь себя сам, и немолчно зови, доколе далекий
Из заповедных глубин: «Вот я!» получишь ответ.
(Заметим, что позднее в «Лепте», этом приложении к «Нежной Тайне», мы находим эпиграммы, посвященные Рачинскому, Ростовцеву, Зелинскому и «Auroram Beethovenianam auscultanti dominae»(«Госпоже моей [Л. Д. Зиновьевой-Аннибал], внимающей «Авроре» Бетховена); две написаны греческими ямбическими триметрами, одна — греческими дистихами, одна — латинскими дистихами.)
Во-вторых, это «эпиграммы» отчасти в смысле новоевропейском, ибо написанные рифмованными четырехстопными хореями, однако верные также и античному смыслу термина постольку, поскольку содержание их может быть сколь угодно серьезным; притом их размер, не будучи с античной точки зрения приличествующим эпиграмме и соседствуя с неантичными рифмами, сам по себе отлично известен античности как versus Anacreonticus. (Античные коннотации четырехстопного хорея не могли не быть знакомы Вяч. Иванову как великому знатоку греческой лирики; психологически они могли врезаться в память тем отчетливее, что гимназическое приобщение к эллинским текстам нормально начиналось с какого-нибудь анакреонтического стишка вроде «Μακαρίζομένσετέττιξ».) Как известно, такими эпиграмматическими стихотворениями в рифмованных хореях образован целый раздел «Кормчих звезд», и притом раздел весьма яркий: «Парижские эпиграммы» 1891 г. Приведем в качестве примера вкратце упомянутое выше стихотворение, которое не только упреждает «Скифов» Блока более чем на четверть века, но и укладывает смысл в несравнимо более экономную форму:
Стены вольности и прав
Диким скифам не по нраву.
Gulllotin учил вас праву.
Хаос волен, хаос прав!
В нас заложена алчба
Вам неведомой свободы:
Ваши веки — только годы,
Где заносят непогоды
Безымянные гроба.
Но «Прозрачность» демонстрирует и третий вариант эпиграмматической формы, своим экзотическим ориентальным именем не указывающей на античный исток, но на деле с ним, конечно, связанной: т. н. «слоки» [118].Достаточно вспомнить прямые отголоски этих афористических четверостиший в стихах куда более поздних, например, в стихотворении 1919 г.: «Да, сей костер мы поджигали», — чтобы почувствовать, насколько эти «слоки» являют собой эскизный набросок дальнейшего творчества поэта.
Познай себя. Свершается свершитель,
И делается делатель. Ты — будешь.
«Жрец» нарекись, и знаменуйся: «Жертва».
Се, действо — жертва. Все горит. Безмолвствуй.
Возвращаясь к рифмованной, но удерживающей античное самопонимание эпиграмме, отметим, что много лет спустя, в 1916 г., Вяч. Иванов написал стихи «на случай» — на открытие памятной доски на доме скончавшегося год назад Скрябина, — которые представляют собой «эпиграмму» в этимологически изначальном смысле греческого термина, т. е. поэтическую тематизацию «надписи» (в приближении к жанру надгробной эпиграммы, вплоть до ритуального «sta, viator!» в начале и столь же ритуальных «отпускающих» слов при конце).
Остановись, прохожий! В сих стенах
Жил Скрябин и почил. Все камень строгий
Тебе сказал в немногих письменах.
Посеян сев. Иди ж своей дорогой.
Итак, дистихи, рифмованные хореические (или, позднее, ямбические) эпиграммы и «слоки» — все три варианта эпиграмматической формы вполне объективнообразуют очень важную линию в «Кормчих звездах» и «Прозрачности». Но, конечно, их значение для нашего анализа не в последнюю очередь определяется тем, что их жанровая идентичность не может вызывать сомнений. Они очевидным образом «эпиграмматичны», и, как все эпиграмматическое, они «гномичны», т. е. от начала до конца ориентированы в своей краткости на то, чтобы дать сентенцию, афоризм — то, что называется греческим словом γνωμή.
Для того, чтобы сделать следующий шаг, выявляя «гномическое» в стихах, эпиграммами не являющихся, мы должны на некоторое время возвратиться к античной эпиграмме и к «гномическим» интонациям в античной поэзии вообще.
Особое, очень выразительное явление представляет собой встречающаяся в тесных рамках античной эпиграммы прямая речь. Ее формальный облик определен особой даже на фоне эпиграмматического контекста сжатостью: если уж эпиграмма принимает в себя прямую речь, каждое слово этой прямой речи, как бы эпиграммы в эпиграмме, — на учете. По своей функции именно прямая речь, если она вообще имеется, обычно реализует pointe эпиграммы; поэтому довольно часто на ней все завершается. Пример из Марциала (XII, 31, 9-10):
…Si mini Nausicaa patrios concedere hortos,
Alcinoo possem dicere: «malo meos».
[Если бы Навсикая уступала мне отцовские сады, я мог бы сказать самому Алкиною: «Предпочитаю мои».]
Знаменитое 101-е стихотворение Катулла кончается строкой:
…Atque in perpetuum, frater, ave atque vale!
[И вовеки, брат, — «здравствуй» и «прощай»!]
Такую же структуру мы встречаем в античных стихотворениях большего объема, являющих собой уже не эпиграммы, а элегии. В конце стихотворения «Сора» из Appendix Vergiliana мы читаем подытоживающую все строку:
…Mors autem vellens: «vivite» ait «venio».
[Подступая, смерть говорит: «Живите! Я иду».]
В старой русской поэзии можно привести памятные всем и вполне эпиграмматические в античном смысле строки Жуковского:
Не говори с тоской: «их нет»;
Но с благодарностию: «были».
У Вяч. Иванова мы встречаемся с подобной формой и структурой прямой речи уже в ранних стихах (характерный пример из «Прозрачности» — все пять двустиший стихотворения «Отзывы», «интрига» которых зиждется на двукратном или троекратном повторении многозначительных формул прямой речи). Но особенную силу приобретает игра в зрелом творчестве, начиная с «Сог ardens»:
Мудрость нудит выбор: «Сытость — иль свобода».
Жизнь ей прекословит: «Голод и неволя»…
Как в древних языках, глагол, вводящий прямую речь, может рассекать прямую речь надвое, а может и отсутствовать:
«Я, — ропщет Воля, — мира не приемлю».
В укор ей Мудрость: «Мир — твои ж явленья».
Позднее все увереннее вводится жесткая, намеренно угловатая формульность:
Сказал Иксион: «Умер Бог». —
«Ушел» — Сизиф, беглец.
В Аиде Тантал: «Изнемог».
Эдип: «Убит у трех дорог,
У трех дорог — Отец».
……………………………
…Но когда «Его, живого,
Вижу, вижу! Свил Он твердь», —
Вскрикнет брат, уста другого
Проскрежещут: «Вижу Смерть»…
Легко заметить, что нагнетание кратких и особенно односложных слов («свил Он твердь»), вообще нередких у Вяч. Иванова, в подобных случаях прямой речи производится с особенной решительностью, доводя до внимания читателя почти физически ощутимую сжатость.
Очень характерен для Вяч. Иванова мотив испрашиваемого, ожидаемого и выслушиваемого оракула, слова которого и составляют естественное завершение стихотворения. В этой связи стоит вспомнить, что дельфийские оракулы представляли собой типичные гексаметрические эпиграммы; что историческая связь между эпиграммой и оракульским изречением несомненна.
Вот несколько примеров.
День ото дня загорается,
Бежит за днем.
Где же река собирается
В один водоем?
Где нам русло уготовано,
И ляжет гладь?
Где нам, вещунья, даровано —
Не желать?
«Как тростнику непонятному,
Внемли речам:
Путь — по теченью обратному
К родным ключам.
Солнцу молись незакатному
По ночам!»
Здесь оракул дается в трех зарифмованных между собой двустишиях. Но для Вяч. Иванова более характерна форма, при которой завершающий оракул дается в двустишии, где рифмасоединяет две его строки. Вспомним поздний сонет «Quia Deus» (самое заглавие коего заставляет вспомнить о поэтике оракула):
«Зачем, за что страдает род людской?»…
Ответствуют, потупясь, лицемеры
От имени Любви, Надежды, Веры
И Мудрости, их матери святой,
Сестер и мать пороча клеветой,
И вторят им, ликуя, изуверы:
«За древний грех, за новый грех, без меры
Умноженный божественной лихвой».
И я возвел свой взор к звездам и к Духу
Надзвездному в свидетельство на них,
И внятен был ответ земному слуху, —
Но как замкну его в звучащий стих?…
«Троих одна на крест вела дорога;
Единый знал, что крест — подножье Бога».
Весь состав сонета выражает ожидание ответа свыше, «оракула», тематизирует это ожидание. Вопрос к себе, касающийся этого ответа, — «Но как замкну его в звучащий стих?…» — преследует две цели, имеет две функции. Во-первых, он обеспечивает то, что в риторической теории именуется retardatio, повышая нетерпение ожидающего итем делая ожидание более чувствительным; во-вторых, он едва ли случайно представляет поэта за делом, чрезвычайно похожим на дело тех πρφήται в языческих Дельфах, каковые должны были «замыкать в звучащий стих» невнятные прорицания экстатической Пифии.
Тема ожидания и получения оракульского ответа допускает и такой случай, когда, напротив, прямая речь, на сей раз отнюдь не скудная, требует ответа и провоцирует его, ответ же — снова двустрочный — дается в речи авторской. Так построено стихотворение 1915 г. «Смерть»: оно четко делится на две половины по восемь стихов каждая, причем в каждой половине три четверти отданы провоцированию ответа, а одна четверть, одна чета александрийских стихов, — ответу.
Когда ты говоришь: «Я буду тлеть в могиле,
Земля ж невестою цвести в весенней силе;
Не тронет мертвых вежд не им расцветший свет,
И не приметит мир, что в нем кого-то нет,
Как не заботится корабль в державном беге
О спящем путнике, оставленном на бреге», —
Знай: брачного твой дух не выковал звена
С душой вселенскою, в чьем лоне времена.
Но я б не укорил в безумьи иль надменьи
Восторга слов иных, — когда б в недоуменьи
Ты звезды вопрошал: «Ужель я стану прах, —
Вы ж не померкнете? Вся жизнь во всех мирах
Со мною не умрет, осыпав свод мой склепный
Смятенных ваших слав листвою велелепной?…»
Не дрогнет твердь. Ты сам, кто был во чреве плод,
Раздвинешь ложе сна, чье имя — Небосвод.
(Снова нагнетание в тексте «оракула» односложных слов: «твердь-ты-сам-кто-был-[…] плод», особенно явственное по контрасту с непосредственно соседствующими трехсложными «смятенных», «листвою» и под конец четырехсложным «велелепной»).
Сюда же относится тенденция маркировать «оракульские» речения при помощи совпадения границ между словами и границ между стопами, для чего в ямбических стихах требуются слова двусложные (и одно трехсложное — в конце, для замыкания пятистопного ямба женской клаузулой):
Троих одна на крест вела дорога…
Или без женской клаузулы и без трехсложного слова, как в сонете «Transcende te ipsum» из «Прозрачности»:
Рахиль: «Себя прейди — в себя сойди», —
или в уже цитированном стихотворении «Безбожие» из «Света вечернего»:
Эдип: «Убит у трех дорог,
У трех дорог — Отец…»
Порой двусложные слова «оракула» размещены внутри ямбической строки таким образом, что сами по себе образуют не ямбические, а как бы хореические стопы:
…И с ней Надежда: «Близко, близко, внемлю!»
(Вспомним у Пушкина зачины «Буря мглою небо кроет», «Мчатся тучи, вьются тучи», — и поворотный по смыслу стих, вводящий новую тему: «Скучно, грустно… Завтра, Нина»; а у самого Вяч. Иванова в его стихотворении из «Нежной Тайны» «Гроздье, зрея, зеленеет…» — также поворотную строку: «Брызнул первый пурпур дикий»).
Наконец, можно вспомнить совпадение границ слов, на сей раз трехсложных, с границами стоп анапестических — в стихотворении «Неведомому богу» из «Кормчих звезд»:
«Воскресни! Адонис, воскресни!»…
Вернемся от ритмики к лексике, а именно, к отмеченной выше склонности эпиграмматического жанра играть словами. Когда на исходе античного мира греки могли оценить возможность каламбуров, возникающих через встречу лексики эллинской и латинской, обыгрывание этих каламбуров было доверено эпиграмме. У знаменитого антологического поэта позднеантичной поры Паллада имеется замечание, что он не желает, чтобы ему говорили (по-латыни) «domine», поскольку он не имеет, что(по-гречески) «δομεναι», т. е. чем отдариться за лестное титулование (οΰκ εθέλω δόμινε, οΰ γάρ έχω δόμεναι) [119].
В философских и мистических словесных играх Вяч. Иванова обыгрывается грань не только и не столько между языками в смысле лингвистическом (как это все же сделано в полушуточном сонете «Аспекты» из «Прозрачности» — «…Blague или блажь, аффекты иль дефекты…»), — сколько между языками культур. Скажем, слово «явленье» в контексте, не то чтобы заново созданном, но весьма интенсифицированном немецким классическим идеализмом от Канта до Шопенгауэра и далее, употребляется как антоним слова «сущность», как метафизически пейоративное обозначение «феномена» в противоположность «ноумену». Но это же слово в контексте античного мифа и христианской мистике связывается с понятием «теофании», или «эпифании», т. е. «богоявления», как раз преодолевающего равнуюсебе феноменальность и аутентично раскрывающего самое запредельную сущность; пейоративность абсолютно уходит, но корнесловие знаменательно остается, подчеркивая парадокс (как по-гречески у слов «файноменон» и «эпифания» корень тот же). И вот мы читаем в сонете из «Сог ardens»:
«Я, — ропщет Воля, — мира не приемлю».
В укор ей Мудрость: «Мир — твои ж явленья».
Но Вера шепчет: «Жди богоявленья!»…
Особенно активно, разумеется, Вяч. Иванов обживал границу между двумя особенно дорогими для него языками культур — библейским и греческим. Примеры бесчисленны, поэтому ограничимся одним — из «Человека»:
«Не до плота реки предельной,
Где за обол отдашь милоть…»
Вторая строка отсылает сразу к встрече с Хароном и к вознесению пророка Илии, кидающего с колесницы свой плащ Елисею; это создает характерно эпиграмматический эффект осязаемой плотности, чувственной густоты образов и мыслей. Напомним, что в своем переводе Эсхилова «Агамемнона» Вяч. Иванов подарил аттическому поэту два характерно библейских именования Бога — «Живый» и «Сущий» (из Кн. Исхода 3, 14), сделав это, разумеется, абсолютно сознательно:
Жив Бог,
Сущий жив; коль имя «Зевс»
Он приемлет, к Зевсу песнь
Воскриляется моя…
Упоминание Эсхила, любимейшего из поэтов Вяч. Иванова, заставляет вспомнить, как процитирован Эсхил рядом с Достоевским в посвященном Г. Чулкову стихотворении 1919 г. «Да, сей костер мы поджигали…», где о судьбах революционной России и всего мира оракульствует Трагедия:
Поет Трагедия: «Всё грех,
Что воля деет. Все за всех!»…
«Всё грех» — это опять из Эсхила (размышления Агамемнона, которому Калхант велит предать на закланиедочь Ифигению: в переводе самого Вяч. Иванова: «Что здесь не грех? Всё — грех!»). Но «воля» как принцип мирового действия — это ближе к Шопенгауэру, чем к Греции. «Все за всех» — из поучений старца Зосимы у Достоевского, созданный которым типромана именно Вяч. Иванов впервые назвал «романом-трагедией». И все это сплавлено в однородный гномический текст, в единый «оракул». Аналогичные универсалистские эксперименты можно порой усмотреть у Хлебникова, недаром принадлежавшего к «совопросникам» Вяч. Иванова (хотя, разумеется, его интуиция мировой истории в корне отличается от ивановской и в определенных пунктах ей противоположна).
Имя Хлебникова вызывает в памяти по ассоциации имя Асеева, принадлежавшего в молодости к тому же авангардистскому кругу. Именно в стихотворной дарственной надписи Асееву на книге «По звездам» Вяч. Иванову удалось найти формулу для своей поэтики угловатого и, по Сумарокову, узловатого синтаксиса — для стесненности, для стремнин:
Проходят дни, как сны, и сны, как были.
Стесни их так стремнинами стихов,
Чтоб в горле дух, завещанный Сивилле,
Взыграл вином, плеснувшим из мехов. [120]
Заметим в этой связи, что синтаксическая жесткость, очень глубоко присущая строю античной эпиграммы, античного оракула, вообще античной γνωμη, когда-то отнюдь не была избегаема русской поэзией. Вспомним знаменитую строку Баратынского: «И ты летаешь над твореньем, / / Согласье прям его лия» (т. е. проливая согласиеего [творения] распрям). Как кажется, среди символистов только Вяч. Иванов не отказался принять это наследие. Риторика Блока и Андрея Белого куда «раскованнее», на поверхности — разговорнее, причем поэты для нагнетания настроенческой динамики идут на то, чтобы снова и снова повторять уже сказанное. Блестящий пример этого «снова, и еще снова, и еще, еще снова — о том же, все о том же самом», — поэма Андрея Белого «Первое свидание»; безудержная сила этого несомненного шедевра, увлекающая читателя, необходимо связана с не менее безудержной многословностью речи и некоторой одномерностью, однонаправленностью смысла. Вяч. Иванов отдал еще в верлибрах «Прозрачности» дань «песни без удил» и тематизировал самое безудержность как таковую в своей «Мэнаде», столь захватившей современников [121], включая юного Мандельштама [122], и аукнувшейся, между прочим, в одном из последних мандельштамовских стихотворений, — «На утесы, Волга, хлынь, Волга, хлынь!»). Но он был более уединенным и в большей степени шел против течения в своих гномических опытах, вызывавших столько нареканий своей затрудненностью для восприятия. Он не побоялся остаться вместе с античными поэтами, с Данте, с Пушкиным и Баратынским — ив мирной, но твердой оппозиции к нашему столетию, которое Хейзинга назвал пуэрилистическим. Сжатость лучших строк Вяч. Иванова представляется сегодня знамением утраченной зрелости духа, укоризненно взывающим к нашей культурной совести. Гномическая строгость — великая вещь. Я знаю у поэта немало строк, которые мне не по душе; у всех нас — проблемы с общесимволистской лексикой, которая уже чересчур далека и все еще недостаточно далека, чтобы мы относились к ней с историзирующей терпимостью; я встречаю у него мысли, которые мне далеки. Но я почти не нахожу у него строк, к которым не стоило бы приглядываться, вникая в неспешно, неторопливо раскрывающийся смысл…
* * *
Во всем зрелом творчестве Вяч. Иванова не сыскать убийственно-самоубийственных аллюров романтической иронии, призрак которой со времен Гейне блуждал в пространствах европейской лирики, составляя, например, совсем особую тему для поэзии и мысли Блока (вспомним его выразительнейшую статью 1908 г. «Ирония»). Особая черта творчества Вяч. Иванова — юмор, чаще более или менее латентный, во всяком случае, не только не противолежащий серьезности метафизических тем, но, напротив, к ней определенно тяготеющий. Есть тип поэта, для которого неизбежно отведение природных пересмешнических способностей в обособленное русло шуточного стихотворства, позволяющее серьезности этого поэта избежать какого-либо инфицирования юмором. Таков тот же Блок, с детства упражнявшийся в домашних верифицированных шутках; на мистериальные, трагические, даже гротескные мотивы его серьезной поэзии никакого отсвета от этих шуток не ложится. Напротив, у Вяч. Иванова, у которого пульсация юмора ощутима в самом средоточии его поэтического любомудрия, мы сыщем мало шуточных стихотворений в конвенциональном смысле этого термина. Недавно стали известны четыре очаровательных сонета 1896 г., порожденных сугубо житейской ситуацией и обращенных к В. А. Гольштейну, мужу помянутой выше А. В. Гольштейн и врачу [123]. Примечательна сонетная форма, исключительно характерная для творчества Иванова во все его периоды и как бы разрабатываемая в контексте шутки; не менее примечательно макароническое двуязычие первого сонета (не только немецкая речь, волной заливающая второй терцет и перенимающая ответы на русскоязычные рифмы первого терцета, но, между прочим, уже в первом катрене русифицированный галлицизм «шикана», т. е. «chicane»).
О ты, кому вдвойне коллега Аполлон
(Как величал Тебя мой гимн, не в меру бурный,
У славы отнятый шиканою цензурной),
Врач и рифмач, как Феб, — я шлю Тебе поклон!
Едва соперник Твой вступил на небосклон
(Хоть ненавистен мне слов лишних
блеск мишурный,
Для рифмы поясню: на небосклон лазурный),
Уже я поспешал под сень родных колонн, —
Где восседал Декан. Толстяк, меня завидя,
Все лишнее, как я (из лени) ненавидя,
С письмом «Certificat», — смиря зевотой сплин, —
Мнеподал, — «Beides war», примолвя, «überflüssig». —
Was Beides, Teufelskerl! Die beiden Pneumonien
Crepiert ich denn umsonst?!!
— So fluchend geh' und — grüß ich!
Стоит отметить сонет «Bellum civile», посвященный бурям на предвыборном дворянском собрании в уездном городке Курской губернии по имени Тим, куда поэт ездил с другом в 1913 г.:
Дремать я ехал в тихий Тим,
В интимный Тим, — а вижу Форум,
Гражданским потрясенный спором… —
и затем топоним соотносится по созвучию с классическими именами города Рима и мизантропа Тимона. Но ту же технику каламбура мы встречали в весьма серьезных гномических контекстах. Промежуточный случай — другой, много более ранний сонет «Аспекты»: в отличие от предыдущего, он включен автором в «канон», а именно, в сборник «Прозрачность», и тема его — отнюдь не бытовая, а философская, теоретико-познавательная; но он тоже посвящен одному из друзей (В. Н. Ивановскому) и введен в контекст дружеской болтовни о самых что ни на есть серьезных вещах.
Не Ding-an-sich и не Явленье, вы,
О царство третье, легкие Аспекты,
Вы, лилии моей невинной секты,
Не догматы учительной Совы,
Но лишь зениц воззревших интеллекты,
Вы, духи глаз (сказал бы Дант), — увы,
Не теоремы темной головы,
Blague или блажь, аффекты иль дефекты
Мышления, и «примысл» или миф,
О спектры душ!…
Обсуждается ни больше, ни меньше, как легитимность средней области, третьего царства между феноменальным и ноуменальным, между чувственным ощущением и философским системосозидательством, — мифопоэтического прозрения идеи в вещах.
А под конец июня 1944 г. престарелый поэт откликнется на злобу дня — войска союзников вошли в Рим, и на фоне древних камней диковинным коллажем (и предвестием нового переселения народов) видятся обличия многоплеменной солдатески, и только старина Вечного города и в лад с ней душа Вяч. Иванова сохраняют среди переполоха свою невозмутимость:
Вечный город! Снова танки,
Хоть и дружеские ныне,
У дверей твоей святыни,
И на стогнах древних янки
Пьянствуют, и полнит рынки
Клект гортанный мусульмана,
И шотландские волынки
Под столпом дудят Траяна…
В стихотворении, завершающемся хвалой исторически-метаисторическому величию римского «средоточия вселенной», нет ничего «шуточного», — но вынесение в рифму слова «янки», сейчас же фонетически поддержанного и оттененного глаголом «пьянствуют», само по себе создает точно рассчитанный эффект. Такого рода игры чаще встречаются у Вяч. Иванова, чем это замечает невнимательный читатель.
В этом же году он сказал о своем стихослагательстве в словах, которые — словно слепок умной старческой улыбки:
…Да и что сказать-то? Много ль?
Перестал гуторить Гоголь,
Покаянья плод творя,
Я же каюсь, гуторя, —
Из Гомерова ли сада
Взять сравненье? — как цикада.
Он цикадам (сам таков)
Уподобил стариков…
* * *
Вторая половина XX века весьма резко поставила взрывчатый вопрос о соотношении между ивановским проектом «соборного», всенародного искусства, и реальностью тоталитаристского массового действа, в которое перерождалась в советские годы вся жизнь сверху донизу. Можно сказать, что вопрос этот ставился еще в уговорах Андрея Белого принять большевизм, которые О. Шор-Дешарт передает так: «Вячеслав! Ты узнаешь, узнаешь? Ведь советы — это твои орхестр [124]. Совсем, совсем они!» [125]. Н. Я. Мандельштам в своей «Второй книге» вернулась к этой проблеме как к тому, что в послегитлеровской Германии принято называть «Schuldfrage» — «вопрос о вине», о соучастии в преступлениях тоталитаризма, в изготовлении рокового умственного зелья идеологий. Она проторила путь, и сегодня аналогичные высказывания встречаешь очень часто — скажем, у А. Кушнера, у Б. Парамонова, далее везде.
Мы не намерены отстаивать абсолютную невинность и как бы непричастность к катастрофам века ни для символистов вообще, ни специально для Вяч. Иванова. Это решительно противоречило бы прозрениям самого поэта, для которого была исключительно важна мысль Достоевского о вине каждого перед каждым; мы помним, какими стихами он откликнулся в 1918 г. на разгорание большевистского «костра». Толку в благодушных апологиях так же мало, как в морализирующих порицаниях. Необходимо вообще выйти за пределы несложных оценочных суждений и попытаться увидеть вопрос в его исторической перспективе.
Тот вариант символизма, который в России был с наибольшей последовательностью теоретически кодифицирован и практически реализован Вяч. Ивановым, уходит своими корнями в немецкую романтику. Вяч. Иванов, любовно переводивший Новалиса и разрабатывавший концепцию символа, как указывалось выше, в согласии с Шеллингом, отлично отдавал себе в этом отчет. А немецкая романтика, как и русский символизм, соседствовала со стихией революции; правда, ее место в истории определяется не столько предшествованием революции (1848 г. [126]), сколько последованием за французской революцией и переживанием ее опыта. Так вот, если мы попытаемся понять и истолковать это переживание в однозначных терминах общественной этики, позиция немецких романтиков предстанет мало понятной и рискует нас оттолкнуть: старозаветным консерватизмом, опасно-мечтательным культом народного предания — на поверхности, рискованной игрой с наирадикальнейшими новыми возможностями — на глубине. Скажем, «Люцинда» Фридриха фон Шлегеля (1799 г.), удостоившаяся комментариев теолога романтики Шлейермахера, определенно предвосхищала идеи символистского раскрепощения Эроса, если уж не говорить о нынешней «сексуальной революции»; очень многое в составе немецкой романтики указывало в направлении феминизма; все «консервативное», что мы встречаем, например, в знаменитых фрагментах Новалиса, каждое мгновение готово обернуться собственной противоположностью. Ибо проблема немецкой романтики — отнюдь не ответ на те или иные события, остающиеся в пределах политики, но угадывание долгосрочных антропологических сдвигов, которые касаются самой человеческой «природы» и «сущности».
Представляется возможным определить тот тип мысли и творчества, к которому в равной степени принадлежали Новалис и Вяч. Иванов, по доминирующему признаку сосредоточенности на антропологической проблеме; и признак этот соответствует состояниям культуры, когда «сущность» человека выходит из прежнего тождества себе.
Если видеть задачу писателя и мыслителя в том, чтобы на моралистическо-алармистский манер, возможно однозначнее и возможно громче вовремя предупредить широкий круг своих сограждан по человечеству о сугубо конкретной грозящей опасности, — признаем, что решением этой задачи русская литература Серебряного века вообще не очень занималась. Но упомянутая задача, будучи достойной и серьезной, никак не является единственной.
Вопрос «Вяч. Иванов и революция» неправомерно сводить к более узкому и частному вопросу: «Вяч. Иванов и октябрьская революция» (или даже чуть шире: «Вяч. Иванов и русская революция»). Поэт и мыслитель, широко ставивший вопросы, приобретшие расхожую и банализирующуюся актуальность не столько в первой, сколько во второй половине XX столетия, — скажем, вопрос о новой роли женщины, — столь провинциального подхода к себе во всяком случае не заслужил. Взгляды Вяч. Иванова на грядущий переход от «келейного» искусства к всенародным «орхестрам» на площади — и вправду вульгаризовавшиеся в теории и практике массового политического «действа» раннебольшевистской поры — благоразумно соотносить с очень широким кругом явлений искусства и жизни XX века. Даже если соотнесение это будет неизбежно во многих пунктах носить характер более или менее горькой иронии, когда придется повести речь о «массовой», «молодежной» и прочих субкультурах — вспомним, однако, одухотворение «молодежной» субкультуры в практике Taizé! — сама ирония эта будет содержательнее, чем непременное замыкание вопроса на советской пропаганде и советской же «самодеятельности», которое было по весьма уважительным причинам неизбежно для Н. Я. Мандельштам.
Вопрос о «правоте» или «неправоте» ряда аспектов философской позиции Вяч. Иванова, по-видимому, останется открытым надолго, если уж не прямо до конца истории. Не надо забывать, что мысль поэта чаще ставила вопросы, нежели предлагала ответы, и что прогноз не есть еще безоговорочное одобрение прогнозируемого, как и определяющий эмоциональную окраску ивановских прогнозов ницшевский «аmоr fati» заведомо не тождественен историческому оптимизму. Развитие мысли Вяч. Иванова очевидным образом ведет от сравнительно однозначных перспектив лекции 1907 г. «О веселом ремесле и умном веселии» к несравнимо более нюансированным оценкам ситуации в более поздних трудах.
Вообще же говоря, при всей болезненности и катастрофичности явлений большевизма, национал-социализма и т. п., мы не должны принимать объем разрушений, преступлений и страданий за единственный содержательный аспект проблемы: тоталитаризм есть в целом не более, как обнажение на поверхности куда более широкого антропологического кризиса. Если правда, что тоталитаризмы безвозвратно отошли в прошлое, — дай то Бог! — это само по себе не означает большего, нежели снятие некоторых особенно мучительных симптомов кризиса; но с кризисом нам предстоит жить еще долго, и кто же скажет сегодня, каким выйдет из него человечество?
Подводя итоги, трудно не вспомнить замечания Павла Муратова о масштабе в постановке проблем, или, как он выражается, о «высотах мироотгадывания», присущих культурной формации Вяч. Иванова и прежде всего ему самому [127]. И сами собой приходят в голову заключительные фразы статьи «Simbolismo», написанной в июле 1936 г. семидесятилетним поэтом для «Enciclopedia Italiana» [128], — в завидной ясности духа подведенный итог, в котором открытиям символистской поры по части вопросов, так и не решенных по сие время, дано преимущество над предлагавшимися ей же готовыми ответами:
«Школа, ценившая почетное, ныне же обессмысленное звание символизма, повсюду очевидным образом умерла вследствие своего /…/ первородного греха — вследствие внутреннего противоречия, изначально ей присущего; однако в ней жила бессмертная душа; и поскольку великие проблемы, ею поставленные, не нашли в ее пределах адекватного решения, все побуждает предвидеть в более или менее далеком будущем и в иных обликах какое-то очищенное проявление "символизма вечного"» [129] .
И какие бы вопросы — деликатные, суровые, просто критические — ни были у нас к Вяч. Иванову, одно мы должны неизменно чувствовать: насколько же сам этот человек умел ценить вопросы и не страшиться их, насколько он был для них открыт. В том числе и вопросам к нему самому.
У него остается и сегодня одно преимущество над изобличителями: он диалогичен, они — нет. Его беспочвенная запредельностьвключает способность отрешиться также и от собственной личины, от собственной роли. Мы вправе нелицеприятно взвешивать и отмеривать pro и contra — но не должны при этом избегать его испытующего взгляда, который нет-нет, да и встретится с нашим.
Примечания
1. 1 Письмо Алексею Гавриловичу Годяеву от 7 декабря 1935 г, черновик которого хранится в Римском архиве Вяч Иванова цитируется благодаря любезности подготовившего его к изданию А. Б. Шишкина.
2. Курлыков — комический персонаж домашнего фольклора, творившегося Вяч. Ивановым в сообществе с детьми, особенно Лидией (см.: Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце. Purls, 1990. С. 68–70).
3. Приведено в кн.: Иванова Лидия. Воспоминания. С. 172–173.
4. Андрей Белый. Начало века. М.; Л., 1933. С. 308.
5. D'Ivanov a Neuvecelle. Entretiens avec Jean Neuvecelle recueillis par R. Aubert et Urs Gfeller. Montricher, 1996. P. 290.
6. Правда, именно за последнее время объем введенной в научный обиход документации о раннем периоде жизни Вяч. Иванова возрос в несколько раз, причем следует особо отметить роль М. Вахтеля. Ср., например: Вахтель М. Вячеслав Иванов — студент Берлинского университета / / Cahiers du monde russe. Nr. XXXV. 1994. P. 353–376; Wachtel M. Russian Symbolism and Literary Tradition: The University of Wisconsin Press, 1995. Раздел «The Years of Apprenticeship: Vyacheslav Ivanov's Lehrjahre. S. 21–42, где в аналитическом контексте содержится и немало данных о начальном периоде творчества поэта; Переписка Вяч. Иванова с А. В. Гольштейн. Изд. М. Вахтель и О.А. Л Кузнецова // Studia Slavica Hungarica. Т. 41. Fasc. 1–4. Budapest, 1996. P. 335–376.
7. Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 47.
8. Иванов Вяч. Собр. соч. Т. II. С. 8.
9. Альтман М. С. Разговоры… С. 77.
10. Иванов Вяч. Собр. соч. Т. II. С. 12.
11. Иванов Вяч. Собр. соч. Т. II. С. 12.
12. Об этом сумел выразительно сказать Г. Федотов в своем труде «Трагедия интеллигенции»: «…В гражданской поэзии, в живописи передвижников — всюду возносится, сорванная с киота, икона Христа: Крамской, Поленов, Ге, Некрасов, К. Р. Надсон не устают ловить своей слабой кистью, лепечущими устами святые черты».
13. Правда, журнальная поденщина, дававшая молодому филологу необходимый приработок, не всегда идеально соответствовала кодексу либеральной интеллигенции; по всей строгости этого кодекса отношения с "Московскими ведомостями" (ср. письмо А.В. Гольштейн Вяч. Иванову от 15 февраля 1903 г.) или "Новым временем", даже анонимные, при статусе, как принято нынче выражаться, "негра", также рассматривались как не совсем желательные.
14. Сознаемся, что не совсем согласны со степенью эмфазы высказываний К. Лаппо-Данилевского о какой-то особой самостилизации, которую будто бы можно разоблачить благодаря данным публикаций М. Вахтеля: «…Сам Вяч. Иванов никогда не скрывал — собственная биография им "творится". /…/ Наиболее показателен поэтому эпизод ученичества в 1886–1891 годах в Берлинском университете у Т. Моммзена, ставший одним из краеугольных камней автобиографического мифа Вяч. Иванова. Как показали недавние разыскания М. Вахтеля, во всем, что касается научной работы, Отто Гиршфельд, другой берлинский профессор, был для Вяч. Иванова более важен, чем Т. Моммзен, а методичность и целеустремленность не отличали молодого ученого…» (Набросок Вяч. Иванова «Евреи и русские» // Новое литературное обозрение. 1996. № 21. С. 182). Разумеется, отнюдь не только в специфической атмосфере Серебряного века, но решительно всегда и повсюду воспоминания человека о своей неведомой миру поре неизбежно проходят отбор и переосмысление, отдаляющее их от предметной объективности документа. Совершенно естественно, что Вяч. Иванов предпочитал называть своим читателям и собеседникам имя Моммзена, а не имя Гиршфельда; первое имя было на слуху, второго не знал никто, кроме узкого круга специалистов, да и разговоры с Моммзеном, включавшие, в частности, темы политические, по самой «природе вещей» годились для мемуарного фиксирования — в отличие, от рутины профессионального обучения.
15. Сказанному решительно никак не противоречит то обстоятельство, что Вяч. Иванов, ведомый своим поэтическим «дэмонием», не вполне удовлетворял немецких наставников по части всецелой сосредоточенности на своих университетских обязанностях, а под конец и вовсе разочаровал их, сбежав от академической карьеры. Само собой разумеется, что русский поэт и немецкий профессор — разные, выражаясь на немецкий лaд, «Lebensformen»; и на фоне этого труизма можно только еще раз самым серьезным образом подивиться выучке, трудовой и умственной Zucht, редкой в России не у одних поэтов. «У нас слишком мало придают значения прилежанию, — поучал он в Баку Моисея Альтмана. — В Германии вот умеют это ценить, и прилежание требуют не только от ученого, но и от художника» {Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 30). Не лишне, разумеется, помнить контекст этого профессорского разговора со студентом, да еще с особенно безалаберным фантазером. Но в России Вяч. Иванов имел право сказать нечто подобное не только одному Альтману…
16. Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. С. 8.
17. Андрей Белый. Офейра. М., 1922. С. 157.
18. Устное свидетельство покойного С.В. Шервинского.
19. Ср. также начало монолога «русского Фауста» из драматических набросков 1887 г.: «Какая скука! скука! скука! / / Пришла, подкралася опять / / Ее холодная, мне ведомая мука…» (Wachtel М. Russian Symbolism and Literary Tradition. S. 26. Едва ли несомненных связей с текстами Гёте и Пушкина («…Мне скучно, бес»), на которые указывает М. Вахтель, достаточно, чтобы объяснить острую экспрессию этого места, атмосферически более похожего на какие-нибудь апухтинские пассажи, чем на того Вяч. Иванова, которого мы будем знать впоследствии. Кажется, сюда же относится описанный О. Шор-Дешарт, без сомнения, со слов самого поэта пережитый в Шатлене весной 1904 г. рецидив депрессивной самозамкнутости, сопровождавшийся острыми приступами нервного удушья (ср.: Иванов Вяч. Собр. соч. Т. I. С. 81).
20. Гиппиус З. «Мы» и «они» / / Весы. 1907. № 6. С. 47–54.
21. Характерно, что Вяч. Иванов в феврале 1903 г. всерьез обдумывал план совместного с Лидией литературного дебюта: «…Вот мы и напали на мысль издавать последовательные выпуски наших сочинений, под общим заглавием. […] Мы получаем возможность объединить наш труд, внутренне глубоко солидарный, и […] двойным голосом высказать наше миросозерцание эстетическое и философское…» (письмо А. В. Гольштейн от 5/ 18 февраля 1903 г.). А. В. Гольштейн стоило некоторого труда отговорить чету от этого «маритального» проекта, указав на насмешки, которые он не преминул бы вызвать. Но на более глубоком уровне, в формах менее наивных, замысел «двуголосного» выражения единого мировоззрения остается константой творчества и мысли Вяч. Иванова в продолжение всего последующего периода.
22. Раннефеминистские мотивы мысли Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (выразившиеся, между прочим, в ее рецензии на книгу Ж Леблан «Выбор жизни» в «Весах» (1904. № 8. С. 60) рассматриваются пока наиболее подробно в статье: Михайлова М. В. Лидия Зиновьева-Аннибал и Вячеслав Иванов: Сотворчество жизни / / Она же. Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 319–332. Добавим, что феминистские увлечения были у только что упомянутой А. В. Гольштейн, в 1897–1903 гг. постоянной корреспондентки и парижской собеседницы поэта, а для Лидии еще более давней приятельницы. См.: Вахтель М., Кузнецова O.A. Переписка Вяч. Иванова с А. В. Гольштейн / / Studia Slavica Hungarica. Т. 41. Budapest, 1996. P. 335–376, особенно P. 336.
23. Иванова Лидия. Воспоминания. С. 296.
24. Хотя бы потому, что чета Фауст — Гретхен (и аналогичная ей другая чета Ставрогин — Хромоножка) — исключительно важный предмет символических медитаций Вяч. Иванова как мыслителя и толкователя мировой литературы. С другой стороны, литература для символиста — никогда не «только» литература, и отношение к ее символам Иванова разве что беспонятным недругам поэта могло казаться таким уж «книжным», т. е. гелертерски-филологическим; в этом смысле само пристрастие Вяч. Иванова к вышеназванной теме равно выходит за пределы ученого комментария к текстам Гёте и Достоевского — и, так сказать, сносок к такой-то странице собственной его биографии.
25. Иванов Вяч. Собр. соч. Т. I. С. 35.
26. Письмо от 1 июня 1895 г. См.: Котрелев Н. В. К истории «Кормчих звезд» / / Русская мысль. 1989. № 3793. 15 сент.
27. Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 96–97.
28. Иванов Вяч. Собр. соч. Т. I. С. 37.
29. Интересно, что в 1927 г., уже став католиком, он подчеркивал, что его шаг подготовлен размышлениями именно тридцатилетней давности (см.: Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. С. 14).
30. Ср.: Примечание О. А. Шор-Дешарт к посвященному Е. Герцык стихотворению «Fata Morgana» / / Иванов Вяч. Собр. соч. Т II. С. 716–720.
31. Герцык Е. Воспоминания. Paris: YMCA-Press. 1973. С. 62.
32. В вопросе о церковности как живой традиции, предполагающей непостижимое общение с «Церковью торжествующей» святых, Вяч. Иванов был очень заинтересован; Отцы Церкви (которых он мог к тому же читать по-гречески и по-латыни) и другие святые русского православия и западного католицизма составляли для него, говоря его собственным языком, важный предмет культа (и тему поэтических раздумий, начиная с самых первых сборников). Характерна его полемика в статье 1916 г. «Старая или новая вера?» против «Смысла творчества» Н. Бердяева: он отметает «культурно-исторический, чисто протестантский подход к "оценке" святого», который находит у Бердяева, и утверждает церковно-персоналистическое понимание святости святых: «Как бы ни были писания его велики и пути подвижничества совершенны, не они предмет почитания церковного, а он сам, его онтологическая "единственность", его вечное бытие и действие в Церкви, и лишь через его мистическую личность — и земные одежды его, и великие и малые слова его, всегда, конечно, живоносные, но никак не принудительные и уж без сомнения не могущие задерживать развития новых форм религиозного действия» (Иванов Вяч. Собр. соч. Т. III. С. 319). В связи с этой формулировкой, церемониально закругленной, как текст соборного определения или энциклики, и, несомненно, злившей Бердяева, который сам практиковал слог торопливо-волевой, — отметим ее решительную несовместимость на две стороны: как с негативизмом оценки святоотеческих авторитетов и вообще т. н. «исторического христианства» у того же Бердяева, у Мережковских и других представителей тогдашнего «неохристианского» направления, так и с тем, что в наше время называют, скажем, «интегризмом», т. е. с верой в букву Предания (свята личность святого, а не сумма его мнений и суждений). Отметим также и ее совместимость — тоже на две стороны: как с православной нормой, так и, парадоксальным образом, с определенными языческими и оккультистскими представлениями. Довольно понятно, что многие находили в этом затянувшуюся предосудительную двусмысленность. Однако представляется, что наряду с важными вопросами, в которых православная норма, без сомнения, не допускает никакой близости ни к языческому мифу, ни к «эзотерическим доктринам», существуют и другие вопросы, с которыми дело обстоит несколько иначе: и для Вяч. Иванова характерно особое внимание к второму разряду вопросов.
33. См.: Иванова Лидия. Воспоминания. С. 64–66 (в неустоявшемся написании термина следуем орфографии текста). Ср.: Гидини М. К. Вячеслав Иванов и имеславие // Studia Slavica Hungarica. С. 77–86 (в приложении — интересные материалы из ивановских архивов).
34. Ср., например: Holl К. Augustins innere Entwicklung // Holl К. Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. Bd. 3. Tübingen, 1928. S. 54-116; Flasch K. Augustin. Stuttgart, 1980. S. 41–55.
35. Для того периода настроений Вяч. Иванова, когда вера во Христа уже была им безоговорочно принята, но связывалась — как это нередко можно встретить в пространстве европейской культуры первой половины XX в., включая такую моралистку, как Симона Вейль, — скорее с миром эллинского язычества, чем с миром ветхозаветного креационизма и также ветхозаветных заповедей, весьма показателен ранний и недавно опубликованный набросок «О многобожии» (Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 33–39). Ср., например: «Всякая мораль нормы есть мораль эвдемоническая, и, как это хорошо знали древние, отделявшие этику от религии, не имеет с последней ничего общего» (Там же. С. 37). Нам еще придется говорить об этом аспекте проблемы в связи с временем «Башни».
36. Троцкий С. В. Воспоминания / / Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 73.
37. Характерна тематизация поколенческого в записях Ахматовой: «Несомненно, символизм — явление 19-го века. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми 20-го века и не хотели оставаться в предыдущем. Николай Степанович моложе Блока только на 7 лет, но между ними — бездна…» (Цит. по изд… Ахматова Анна. Десятые годы / Сост. и прим. Р. Д. Тименчика и К. М. Поливанова. М., 1989. С. 134. Можно вспомнить ее же склонность отмечать, кто из знаменитостей более позднего времени — скажем, Чарли Чаплин — родился в один год с ней, см.: Там же. С. 7). К теме символизм versus акмеизм относятся трезвые напоминания Лидии Гинзбург: «Литературная школа — понятие растяжимое: от эпохального направления до компании друзей. Символизм со всем, что его подготовило и что шло по его следам, был большим, мировым течением в области теоретической мысли, литературы, изобразительного искусства, театра; акмеисты — это пять-шесть молодых поэтов /…/» (Цит. по изд:.Мандельштам О. Камень. Л., 1990. С. 264). К ее словам можно добавить, что подобно тому, как мы говорим о проявлениях немецкой романтики не только в пределах литературы и искусства при самом широком понимании этих пределов, но и в философии (Фихте, поздний Шеллинг), в теологии (Шлейермахер), в исторической мысли (Бахофен), даже в теории права (гейдельбергская школа) и чуть ли не в медицине (гомеопатия), — методологически оправдан подход к русскому символизму как к явлению сходного порядка. Если Шлейермахер — теолог немецкой романтики, то, например, о. П. Флоренский — богослов русского символизма. Если в феномен немецкой романтики укладываются изыскания Бахофена о «материнском праве», в феномен русского символизма укладываются не только научные работы того же Вяч. Иванова, но и многое в научной и популяризаторской деятельности исследователя античной культуры Ф. Ф. Зелинского. Без предпосылок, созданных русским символизмом, едва ли было бы возможно открытие искусствоведческим сознанием XX в. эстетической ценности русской иконы (ср. рассуждения Д. Святополка-Мирского о том, почему «древнерусское искусство "открыли" не славянофилы, а декаденты», т. е. символисты и их наследники, в его статье «О московской литературе и протопопе Аввакуме» (Евразийский Временник. Вып. 4, 1925. С. 338–350 = Mirsky D. S. Uncollected Writings on Russian Literature. Berkeley, 1989. P. 145–155).
38. Гумилев Н. Собр. соч. / Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Washington, 1968. Т. IV. С. 268.
39. Ср.: Poljakov Fedor В. Kirchenslavisch als universelle Kultursprache in der mythopoetischen Konzertion Vjaceslav Ivanovs, in: Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift f. Slavistik. Jg. XL1I. 2. 1997. S. 252–271.
40. Как известно, синтаксические и словообразовательные структуры церковнославянского языка, формировавшегося в ходе перевода богослужебных и вообще сакральных текстов, ориентированы на греческие образцы. Вяч. Иванов писал об этом: «Церковнославянская речь стала под перстами боговдохновенных ваятелей души славянской, св. Кирилла и св. Мефодия, живым слепком "божественной эллинской речи"…» (Иванов Вяч. Наш язык // Собр. соч. Т. IV. С. 676. Заглавие этой статьи, упоминаемой ниже в связи с участием поэта в сборнике «De Profundis», характерно для его убежденности в существенном единстве церковнославянского и русского языков как «нашего» языка). Для знатока греческого витийства церковнославянский язык и впрямь дает возможность увидеть знакомые обороты и словообразовательные модели как бы сквозь прозрачное средостение… Приверженность Вяч. Иванова к языкам древним имеет симметрическую параллель в его позднейшем сочувствии выбору сионистов в пользу библейского иврита против «жаргона», т. е. идиша. См.: Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 52: «Только сионизм должен стать течением религиозным. И язык ваш должен быть древнееврейским. По отношению к жаргону я антисемит. /…/ Я работал над Бяликом и хотел бы, чтоб вся энергия нации ушла в древнееврейский язык. Пусть это Вам не кажется решением стороннего человека: для великих целей я бы не пожалел и языка Достоевского». Эта горячность при обсуждении вопроса, как-никак, не входившего в конкретные заботы Вяч. Иванова, заставляет, во-первых, почувствовать исключительную принципиальность и последовательность его языкового проекта, который позволительно находить отчасти утопией, но недопустимо сводить к эстетской игре в словесный маскарад: во-вторых, увидеть этот проект на фоне всемирного ряда языковых программ, характерных для двух последних веков и выходящих за пределы только литературного (скажем, долженствовавшее быть интересным Вяч. Иванову, как наследнику славянофильских идей о Чехии, возрождение чешского языка, а также т. н. «кельтский Ренессанс» в Ирландии и других ареалах и тому подобные феномены).
41. Иванова Лидия. Воспоминания, С. 87.
42. Ср. нашу статью: Вяч. Иванов и русская литературная традиция / / Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX — начала XX века. М., 1992. С. 298–312.
43. Цит. по комментариям О. А. Шор-Дешарт: Иванов Вяч. Собр. соч. Т. III. С. 692.
44. Статья о Вяч. Иванове в энциклопедии: Русские писатели1800-1917. Т. 2. М., 1992. С. 372–376, специально — С. 373.
45. Белый А. Начало века. М.; Л., 1933. С. 314.
46. 46 Котрелев Н. Цит. соч. С. 374.
47. Иванов Вяч. Собр. соч. Т. II. С. 673.
48. Иванова Лидия. Воспоминания. С. 47.
49. Содержание последнего отрывка касается, в частности, предмета конкретного — зашедших в тупик отношений с антропософкой Анной Рудольфовной Минцловой, представленной в свое время Вяч. Иванову Волошиным, обитавшей в 1908–1910 гг. на «Башне», а затем загадочно исчезнувшей. Но отношения эти были симптоматически характерны для общей атмосферы «Башни», и внутренний конфликт с Минцловой не мог не быть для поэта хотя бы отчасти спором с «Башней» как им же развязанной стихией, и постольку — с чем-то в самом себе.
50. Иванов Вяч. Собр. соч. Т. II. С. 756.
51. Степун Ф. Вячеслав Иванов (впервые: «Современные записки». 1936. Кн. LXII; цит. по изд.: Иванова Лидия. Воспоминания. С. 374).
52. Ср.: Разговоры с В. Д. Дувакиным // Человек. 1993. № 6. С. 156.
53. Иванова Лидия. Воспоминания. С. 47.
54. Там же. С. 49.
55. Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 68.
56. Ср. письмо Бердяева Вяч. Иванову от 30 января 1915 г. («…свое языческое чувство жизни Вы теперь прилаживаете к церкви, как к женственности и земле», публикация А. Б. Шишкина в кн.: Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. С. 140), а также опубликованный В. Проскуриной рукописный журнал 1915 г. «Бульвар и переулок» в журн.: Новое литературное обозрение (1994. № 10. С. 173–208.), где Бердяев иронически говорит об «эрноподобных».
57. Ср.: Баран Х. Первая мировая война в стихах Вячеслава Иванова / / Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. С. 171–185.
58. Разумеется, необходимо учитывать впечатление, произведенное на Вяч. Иванова отголосками разгоревшегося более чем за три десятилетия до этого в Берлинском университете «спора об антисемитизме» («Antisemitismusstreit», см.: Лаппо-Данилевский К. Набросок Вяч. Иванова «Евреи и русские»… С. 183–184). Но живая память о столь давнем событии, к тому же имевшем место еще до приезда Вяч. Иванова в Берлин и потому не вошедшем в круг его конкретных, непосредственных впечатлений, вовсе не является само собой разумеющейся и скорее сама нуждается в объяснениях, чем что-либо объясняет.
59. Запись 10 апреля 1921 г. (Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 65).
60. Ср. замечание в статье Бахтина «Искусство и ответственность»: «Возможна и синтетическая лирика, не замыкающаяся в отдельных себе довлеющих пьесах, возможны лирические книги ("Vita nuova", отчасти сонеты Петрарки, в новое время к этому приближаются Вяч. Иванов, "Stun-denbuch" Рильке)…» (Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 18).
61. Иванов Вяч. Собр. соч. Т. III. С. 424.
62. 62 Другое дело, что, подвергнув в этом сборнике суровому суду большевистскую языковую политику, он примерно в это же время пытался найти легальный путь противодействия разрушению языка, обращаясь в Наркомпрос с проектом создания соответствующей «ученой ассоциации», хотя и без успеха (см. справку об архивном материале в примечаниях М. А. Колерова и Н. С. Плотникова в кн.: Вехи. Из глубины. Приложение к журн. «Вопросы философии». М., 1991. С. 568–569).
63. Запись 10 апреля 1921 г. (Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 64).
64. Ср. римскую дневниковую запись от 1 декабря 1924 г. с сочувственным цитированием письма В. Ф. Ходасевича — о понижении интеллектуального уровня в обеих «половинах» идейно расколовшейся России (Иванов Вяч. Собр. соч. Т. III. С. 851). Ср. ниже: Примеч. 77.
65. Иванов Вяч. Собр. соч. Т. III. С. 356.
66. В статье: О современном состоянии русской поэзии. 1922. См.: Mirsky D. S. Uncollected Writings on Russian Literature / Ed. by G. S. Smith. Berkeley, 1989. P. 106.
67. Ср.: Котрелев H. В. Вячеслав Иванов — профессор Бакинского университета // Труды по русской и славянской филологии. XXI: Литературоведение. Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 209. Тарту, 1968. С. 326–329.
68. Запись 24 августа 1921 г. (Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым… С. 76).
69. Там же. С. 98.
70. Запись Альтмана 27 августа 1921 г. / / Там же. С. 78
71. Альтман: Автобиографическая проза / / Там же. С. 313.
72. К. Ю. Лаппо-Данилевский пытается в своих комментариях к этому отрывку (Там же. С. 354) понять сюжет вполне реалистически; отметив явные несообразности, он возлагает ответственность за них на Альтмана. Однако важна завершающая сюжет фраза: «И вот он пришел, как сын к родителям, как младший к старшим, и всем он, пo-сыновьи, моет руки», — очевиден намек на поведение самого поэта, и намек этот дает ключ к иносказанию: родители — мир иудаизма, любимая жена — христианство.
73. Сюда же относится импровизационная попытка притчеобразного истолкования (с христианской тенденцией) рав-винического текста в разговоре с Альтманом 24 августа 1921 г. (Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 75). Незнание языка, увы, сказывается: по-еврейски речь идет не о «двенадцати», на чем строится игра Вяч. Иванова, а о «полуночи» (חוצמ, этимологически «середине»). Но самый тип традиционного раввинского прения на экзегетические темы уловлен поразительно.
74. «Редкие пловцы в безмерной стремнине»: цитата из «Энеиды» Вергилия (I, 118), не случайно приходящей на ум Иванову в его «Энеевом» странствии и подразумеваемой, как мы видели, в первом из «Римских сонетов».
75. Иванов Вяч. Собр. соч. Т. 3. С. 850–851.
76. Там же. С. 853.
77. D'Ivanov a Neuvecelle. Entretien avec Jean Neuvecelle recueillis par Raphaël Aubert et Urs Gfeller, Montricher (Suisse), 1996. P. 85.
78. Оставшийся в советской России Г. Чулков, с которым Вяч. Иванова связывала многолетняя дружба, соблазнял его в письме от 21 мая 1928 планами печатать его стихи в журнале «Красная новь»: «У них печатается Андрей Белый и они вообще желают быть "широкими"» (цит. по комментарию Дж. Мальмстада в кн.: Иванова Лидия. Воспоминания. С. 134–135. Примеч. 5). Эти переговоры, как и каприйские прожекты Максима Горького относительно создания некоего общего литературного журнала для эмигрантских и советских писателей (волновавшие тогда же и Ходасевича), обернулись прахом; однако написанным уже в Риме статьям случалось и дойти до отечественного читателя — одна («"Ревизор" Гоголя и комедия Аристофана») в «Театральном Октябре» (I, 1926), другая («К проблеме звукообраза у Пушкина») во 2-й книге издания «Московский пушкинист» (Статьи и материалы под редакцией М. А. Цявловско-го. 1930). Долго не умирала надежда на публикацию переводов; правда, перевод «Орестеи» Эсхила появился после кончины Вяч. Иванова и без его имени (в кн.: Греческая трагедия. М., 1950), с обозначением: «пер. под ред. Ф. А. Петровского» (в чем этот заслуженный переводчик и порядочный человек не был виноват). Решаюсь принести личное свидетельство, не соответствующее жанру статьи, но важное, по крайней мере, для моих представлений о том, стоило ли Вяч. Иванову сберегать возможность хотя бы такого издания на родине; я сам читал этот перевод в бытность школьником, со школьных лет и на всю жизнь помню большие куски наизусть, — и когда под конец школы мне попались оригинальные стихи Вяч. Иванова, это была радость «узнавания» в античном смысле слова. Так как, стоило ему печься о том, чтобы дать свой перевод кому-то — не мне же одному — в Москве 1950 года?
79. Ср. открытое письмо Куприна Ходасевичу («Русская газета» от 3 мая 1924 г.), где творчество Ходасевича описывается как предназначенное для «нэпманских модниц, снобов из чека и болъшевизанствующих приват-доцентов срока 1917 г.»; затем последовала статья Куприна под выразительным заглавием «Товарищ Ходасевич» (там же, 28 мая 1925 г.). То обстоятельство, что это писал именно Куприн, которому предстояло примиренно вернуться в СССР в страшном 1937 г., именно о Ходасевиче, проявившем столь острое понимание устрашающих сторон советской реальности, — парадоксально заостряет тему. Что до Вяч. Иванова, Федор Степун предупреждал его в письме от 15 марта 1925 г.: «Посмотрев эмиграцию в Париже, я пришел к заключению, что нашему брату писателю жить здесь весьма трудно. Вам, конечно, будет труднее многих, потому что Вы приехали одним из последних и потому что не все здесь достаточно хорошо понимают, что пребывание на территории советской России отнюдь не есть еще пребывание в большевиках» (цит. по кн.: Vjaceslav Ivanov. Dichtung und Briefwechsel aus dem deutschsrpachigem Nachlass / Hrsg. von M. Wachtel (Deutsch-russische Literaturbeziehungen. Forschungen u. Materialien. Bd. 6). Mainz, 1995. S. 15. Anm. 13. У Вяч. Иванова был и собственный огорчительный опыт. О нем мы читаем у дочери поэта: «В начале нашей римской жизни мы посещали православную русскую церковь. Русская колония, состоявшая преимущественно из старых аристократов-монархистов, кроме редких исключений невысокой культуры, — встретила нас сурово. Когда мы втроем в первый раз старались пробраться через маленькую толпу прихожан, мы слышали шепот, — явно достаточно громкий, однако, чтобы донестись до наших ушей: "Сколько теперь советской сволочи!"» (Иванова Лидия. Воспоминания. С. 202). Ср. также: D'Ivanov a Neuvecelle… Р. 101–102.
80. Vjaceslav Ivanov. Dichtungu. Briefwechsel… P. 16. Anm. 16.
81. Ibid. P. 16. Anm. 16.
82. Иванова Лидия. Воспоминания. С. 197: «…Прелаты заявили, что формула Соловьева не годится, если не получится особого разрешения от Sant'Ufficio. /…/ В Уффиции Вячеслав был встречен равнодушными и пугливыми бюрократами. Дело становилось драматичным. Площадь перебегалась не раз. Каким-то образом все в последнюю минуту уладилось».
83. Ср.: D'Ivanov a Neuvecelle… Р. 114 sqq.; Письма В. И. Иванова к сыну и дочери (1927 г.). Вступительная заметка, подготовка писем и примечания Д. В. Иванова / / Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. С. 14–33; Иванов Д. В. Из воспоминаний / / Там же. С. 34–71, особенно 68–69.
84. Письма В.И. Иванова к сыну и дочери… // Там же. С. 23.
85. Там же. С. 18.
86. Иванова Лидия. Воспоминания. С. 51.
87. Иванов Вяч. Собр. соч. Т. IV. С. 658.
88. Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 71. Ср. также беседу 3 февраля 1922 г. с рассуждениями о Петре и папстве (Там же. С. 106–107).
89. Цит. по: Иванова Лидия. Воспоминания. С. 161. Примеч. 5.
90. Там же. С. 26–27.
91. Письмо С. Л. Франку от 3 июня 1947, цит. по: Иванова Лидия. Воспоминания. С. 232. Примеч. 1.
92. Теперь уже не было причин обходить стороной эмигрантские издательства, и в 1936 г. он дает в парижские «Современные записки» свои «Римские сонеты»; тремя годами позже отдельной книжкой в Париже выходит, наконец, «Человек»
93. Позволю себе поделиться скромным, но лично пережитым впечатлением. В 1989 г. я повстречал на одном университетском банкете в Северной Англии католического священника, занимающегося пастырской работой со студентами; никто не представлял себе, что у него есть какие-либо познания в русском языке, местные русисты не были с ним знакомы; тем большей неожиданностью было, когда он, выяснив, что я — русский, прочитал мне по памяти и довольно верно одно позднее стихотворение Вяч. Иванова, а после рассказал, что очень любил ходить к нему на занятия в Ориентале…
94. Цит. по: Иванова Лидия. Воспоминания. С. 173. Ср. опубликованную М. Вахтелем переписку Иванова с Бубером: Vjaceslav Ivanov. Dichtung und Briefwechsel… S. 29–47.
95. Письмо Герберту Штейнеру от 22 ноября 1947 г. (Там же С. 32).
96. На самом деле — до времен существенно более поздних: «Благословил хирографом цареградский изгой церкви нашей самостояние и своеземным патриархом возглавление», — здесь речь идет уже об установлении Московского патриархата в 1589 г.; Борис Годунов, в то время фактический властитель на Москве (и как бы один из прототипов ивановского Владаря), добился санкционирования на это дело от Константинопольского патриарха Иеремии II, «цареградского изгоя». Разумеется, проза Вяч. Иванова сливает это событие с более ранним на полтора века обретением Московской митрополией автокефального статуса.
97. Ср.: Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства (Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна»). М., 1970.
98. Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 466–472.
99. См.: Иванов Вяч. Собр. соч. Т. I. С. 222–223. Предложенное ею продолжение там же, с. 371–512.
100. Стихотворение 4 августа 1944 (см.: Иванов Вяч. Собр. соч. Т. III. С. 625).
101. Иванова Лидия. Воспоминания. С. 297.
102. Письмо Брюсову от 3 июня 1906 г. (опубликовано Н. В. Котрелевым: «Литературное наследство». Т. 85. М., 1976. С. 492).
103. Шеллинговская концепция символа, весьма принципиально отличная от той, которая позднее была предложена Гегелем, дана уже в ранних лекциях по философии искусства (Философия искусства / Пер. П.С. Попова. М., 1966. С. 106–116); она исходит из понимания искусства вообще как «внедрение бесконечного в конечное» («die Einbildung des Unendlichen ins Endliche»); дальнейшее развитие она получила у позднего Шеллинга в контексте философии мифа и Откровения, обнаруживая все более очевидное сходство с традиционным для католицизма (и православия) учением о сакраментальной реальности как тождестве знака и означаемого смысла. (Можно рассматривать символологию Шеллинга, по конфессии протестанта, как компенсирующее порождение тоски по конкретности таинства в церковной традиции.) Как дефиниции символа, предлагаемые Вяч. Ивановым (с особенным подчеркиванием неисчерпаемости, многосмысленности и «темноты в последней глубине»), так и характерные для ивановского мышления контексты, которые соотносят творимые художником символы и с языческими мифами, и с христианским церковным сакраментализмом, очень точно соответствуют мыслям Шеллинга. Тема влияния Шеллинга на Иванова (которое могло быть как прямым, так и опосредованным) пока не разработана; но совершенно очевидно, что «ортодоксальность» ивановской символологии восходит никак не к французскому «symbolisme», а в числе немецких источников имеет также и «Философию искусства». С некоторым удивлением отметим, что М. Гаспаров (см.: Антиномичность поэтики русского модернизма (1992, вошло в сб.: Избранные статьи. М., 1995. С. 286–304)) принципиально оспаривает именно символический характер поэтического метода Вяч. Иванова. В сущности, литературоведческое мировоззрение М. Гаспарова не оставляет места для концепта символа в смысле, скажем, шеллинговском; для него существуют, с одной стороны, аллегории, с другой — зыбкие намеки. Многозначность оказывается непременно связана с зыбкостью, а связность — с однозначностью; но так ли это? Избранный М. Гаспаровым пример — стихотворение Вяч. Иванова «Звезды блещут над прудами» (из мелопеи «Человек»); однако предложенная им попытка «дешифровать» аллегорию в описательном пересказе едва ли может быть признана убедительной.
104. «Die Kunst konstruieren heiβt, ihre Stellung im Universum bestimmen. Die Bestimmung dieser Stelle ist die einzigeErklärung, die es von ihr gibt» (SchellingF.W.J, von. Saemtliche Werke, I. Abt. Bd. 5. Stuttgart; Augsburg, 1859. S. 373).
105. В специальном случае Вяч. Иванова (характеризующемся, во-первых, хронологически продолжительной предысторией, во-вторых, очень отчетливым проявлением авторской воли в отборе канона собственных текстов) «обретение себя» — иное имя для начала продуцирования произведений, принятых автором в канон. Очевидно также, что отбор канона осуществлен не просто по признаку «качества», «уровня», но в последовательной связи с выстраиванием системы символов.
106. Письмо от 13/26 августа 1909 г. (ГБЛ. Записки отдела рукописей. М., 1973. Вып. 34. С. 262).
107. Ср., например, статью 1912 г. «Мысли о символизме», где в качестве необходимого признака символического поэта в отличие от всякого иного названа способность «заставить самое душу слушателя петь со мною другим, нежели я, голосом, не унисоном ее психологической поверхности, но контрапунктом ее сокровенной глубины, — петь о том, что глубже показанных мною глубин и выше разоблаченных мною высот» (Собр. соч. Т. II. С. 606). См.: письмо Блока Андрею Белому от 6 июня 1911 г.1 °Cр.: места из писем: «…знаю, что путь мой в основном своем устремлении — как стрела, прямой…» (К. С. Станиславскому, 9 декабря 1908 г.); «…идешь все по тому же неизвестному еще, но, как стрела, прямому шоссейному пути…» (матери, 28 апреля 1908 г.)."' Поэт мог думать об афоризме Бернарда Клервоского: «Ubicumque fueris, tuus esto; noli te tradere» («Где бы ты ни был, принадлежи себе; не предавай себя».).
108. Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965. С. 278–279.
109. См.: письмо Блока Андрею Белому от 6 июня 1911 г.
110. Ср.: места из писем: «…знаю, что путь мой в основном своем устремлении — как стрела, прямой…» (К. С. Станиславскому, 9 декабря 1908 г.); «…идешь все по тому же неизвестному еще, но, как стрела, прямому шоссейному пути…» (матери, 28 апреля 1908 г.).
111. Поэт мог думать об афоризме Бернарда Клервоского: «Ubicumque fueris, tuus esto; noli te tradere» («Где бы ты ни был, принадлежи себе; не предавай себя».).
112. Ср.: стихотворение «Вот Он — Христос — в цепях и розах».
113. Формула эта очевидным образом имеет в устах Вяч. Иванова существенно иной смысл, чем у Федорова; и все же перекличка с федоровской фразеологией не может быть, разумеется, случайна. Заодно заметим, насколько характерно для Вяч. Иванова словечко «культ». Как раз «культ предков» — привычная формула из обихода феноменологии религий, не задевающее слуха. Но слово «культ» (забавно скомпрометированное в языке сегодняшнего дня последовательными ассоциациями с языком советского атеизма [ «служители культа»], затем с «культом личности», с «культовыми фигурами» масскультуры, а теперь еще и с «культами», как нынче называют у нас по примеру всего света наиболее одиозные сектантско-оккультистские течения) неоднократно употреблялось поэтом на правах одного из, говоря по-гётевски, «Urworte» («первоглаголов») его языка (ср. словосочетание «философия культа» как обозначение центральной задачи о. Павла Флоренского, например, его «Философия культа» 1918 г.). Культ для поэта есть должное, желательное, искомое состояние культуры (разумеется, присутствует оглядка на этимологическое родство и звуковое сходство обоих слов). Он рассуждает в диалоге с Гершензоном: «…Каждый культ уже соборен, пока жив, хотя бы соединял троих только или двоих служителей, — и соборность вспыхивает на мгновенье и гаснет опять, и не может многоголовая гидра раздираемой внутренним междуусобием культуры обратиться в согласный культ. /…/ У нас двоих нет общего культа…» («Переписка из двух углов», XI). Упоминание «троих только или двоих служителей» — конечно, аллюзия на слова Евангелия от Матфея 18, 20: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Подобного рода сакрализация отношения к избраннейшим представителям культуры, составляющим для Вяч. Иванова «канон», в его стихах проводится последовательно и с очевидной убежденностью. В этом отношении характерен конец раннего стихотворения из «Прозрачности», обращенного к известному коллекционеру-пушкинисту, взявшему себе фамилию героя пушкинского романа в стихах: «Онегин! долы презирая, / / Ты жребий светлых улучил: / / Ты на Фаворе, в куще рая, / / С преображенным опочил»; за основу взят евангельский мотив Преображения Господня.
114. Письмо Брюсову от 3/16 января 1905 г. (публикация Н. В. Котрелева: Валерий Брюсов. Переписка с Вячеславом Ивановым // Лит. наследство. М., 1976. Т. 85. С. 470–471).
115. Характеристика К. Чуковского относится и специально к этим строкам, и к лирике Блока вообще: «Казалось, стих сам собою течет, как бы независимо от воли поэта, по многократно повторяющимся звукам…» (Чуковский Корней. Из воспоминаний об Александре Блоке / / Лит. Москва. М., 1956. С. 786).
116. См.: Иванов Вяч. Собр. соч. Т. IV. С. 748.
117. Там же. С. 158–162.
118. Слоки (собств. шлоки) — термин происхождения санскритского, что неслучайно для периода жизни поэта, в котором были и беседы с индолюбивой А. В. Гольштейн, и занятия санскритом у Соссюра. Так называется форма стиха «Рамаяны», знаменитой эпической поэмы, приписываемой легендарному певцу Вальмики, — двустишия, в которых каждый стих разделен точно посередине цезурой, так что их возможно увидеть и как четверостишия. С точки зрения чисто стиховедческой, поэт употребил термин не вполне корректно — его пятистопные ямбы по числу слогов не эквивалентны стиху «Рамаяны»; но он имел в виду, несомненно, и другие признаки, в переводе, кстати, более очевидные, — общую атмосферу древнеиндийской дидактики; характерные повторы одних и тех же ключевых слов от стиха к стиху, от двустишия к двустишию и дальше; определенный взгляд на вещи, отличающийся от рационалистически-моралистической постановки вопроса о «теодицее», характерной для Запада. Возможно, он знал и легенду о том, как Вальмики нашел форму шлок, претерпев своего рода экстатическую инициацию, — такое подтверждение сакрального статуса поэзии должно было ему нравиться.
119. Anth. Pal. X, 44
120. См.: Асеев Н. Московские записки / /Вячеслав Иванов-Материалы и исследования. С. 151–167, специально 160 (публ. А. Е. Парниса). Мы решились в одной букве исправить текст (автограф коего, как отмечает публикатор на с 167 утрачен): Асеев дает вариант «Сибилле», но для Вяч. Иванова решительно характерна «итацистская» форма. Мемуарный набросок Асеева дает представление о глубокой взаимной амбивалентности, укорененной в самых основах позиций обеих сторон, которая определяла отношения Иванова и будетлян. С одной стороны, «часто мы вместе с ним целые вечера проводили над раскопками древних курганов языка русского, извлекая неожиданно блистательные древние формы забытых речений» (с. 158): Асеев отмечает отсутствие у Иванова старческой «вражды /…/ к смене волны поколения, встречаемого им с философическим спокойствием» (с. 159); с другой стороны, культурный консерватизм символиста, воздерживаясь от агрессивности, остается верен себе. Что касается самого четверостишия, читатель обратит, конечно, внимание на то, насколько его фонетический облик материализует сформулированную в нем программу.
121. Забавное свидетельство, насколько стихотворение это было «на слуху» у символистских поколений, — известная блоковская пародия: «Мы пойдем на "Зобеиду", / / Верно дрянь, верно дрянь…».
122. Вл. Боцяновский рассказывает в газетной статье еще 1911 г., как Мандельштам, «с восторгом» говоривший о Вяч. Иванове, на предложение прочитать что-нибудь из этого автора по памяти, прочитал именно «Мэнаду» (Боцяновский Вл. Афины на Неве / / Утро России. 1911. 10 сент. С. 2; Ср. изд.: Мандельштам О. Камень. С. 346–347).
123. Studia Slavica Hungarica. T. 41. Fasc. 1–4. P. 374–376 (публ. M. Вахтеля и О. А. Кузнецовой).
124. Намек на слова Вяч. Иванова из статьи «О веселом ремесле и умном веселии», впервые появившейся в 1907 г. в журнале «Золотое руно» (№ 5): «Страна покроется орхестрами и фимелами, где будет плясать хоровод, где в действе /…/ народной мистерии воскреснет истинное мифотворчество (ибо истинное мифотворчество — соборно)». Орхестра — в древнегреческом театре место, где пел и плясал хор. Фимела — собственно, обозначение верхней части алтаря, где горела жертва; но в узусе античных авторов слово это постоянно прилагалось к алтарю Диониса на орхестре, почему становилось синонимом слов «орхестра» и «хор».
125. Иванов Вяч. Собр. соч. Т. I. С. 161.
126. Ср. известный термин «Vormärz». (Поскольку «февральская» революция 1917 г. произошла, собственно, в марте, период русской политической истории, в котором локализуется русский символизм и постсимволизм, может быть обозначен как русский «Vormärz».)
127. Муратов П. Вячеслав Иванов в Риме / / Иванова Л. Воспоминания. С. 370.
128. Иванов Вяч. Собр. Соч. Т. II С. 652–659.
129. Там же. С. 659.
Источник: Предание.ру