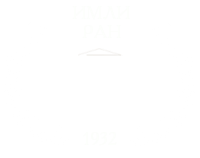Пио Бароха-и-Несси (1872-1956) – один из крупнейших и известнейших писателей ХХ века. Его считают создателем и реформатором современного испанского романа, выдающимся стилистом. Поколение, к которому он принадлежал, именуемое в истории литературы “поколением катастрофы” или “поколением 1898-ого года”, стало символом духовного возрождения Испании. Поиски путей выхода из кризиса предопределили особое влияние философии активизма, культа действия, сказавшихся на европейском климате начала прошлого столетия. Причина обращения к философии действия кроется во все возрастающей активности мира, в огромной популярности ницшеанства, анархизма, различных форм и идеологии революционализма, в убеждении, что применение этих средств может оказаться целительным для современного общества.
Концепт действия1 является важной составной частью и некоторых других философских учений (актуализма, теории творческой эволюции), которые в силу своей заявленной позиции не могут охватить всех сторон понятия действия и, следовательно, являются его аспектами. Универсальное название не всегда отсылает к единой сути: действие во всех концепциях трактуется по-разному. Приблизительно так же обстоит ситуация с действием и при его художественном преломлении. В произведении действие может пониматься не только терминологически (законченная часть драматического произведения или театрального представления), но и идеологически, что сказалось, например, как на содержании, так и на поэтике многих романов Барохи.
Представление о действии в творчестве Барохи многоаспектно; интерес к проблеме действия свойствен всему “поколению 1898-ого года”, но у Барохи
понятие “действие” обретает иное, более значительное измерение, в творчестве писателя вырисовывается философско-эстетическая концепция действия. Писатель создает особую разновидность жанра романа – роман действия, разрабатывает новый тип героя - человека действия и переосмысляет образ авантюриста, в стиле сознательно идет против академического языка и традиции известного испанского писателя рубежа веков Висенте Бласко Ибаньеса (1867-1928), следует модели устного рассказа, использует выразительные средства живой речи. Отсюда – текст, ощущаемый как импровизация, и стиль – как отсутствие отделанности.
Романы 1900-1912 годов с достаточной полнотой воплотили концепцию действия и заложили основы последующего влияния Барохи. Понятие действия становится основополагающим в развитии темы сильной личности: Сильвестр Парадокс, Фернандо Оссорио, Роберто Гастинг, Кинтин Гарсиа Роэлас, Мартин Салакаин, Сесар Монкада2, в самом же действии видится средство самопознания героев. Подкрепленная понятием воли, концепция действия особым образом определяет конфликт романа, где действие противопоставляется не столько бездействию, сколько безволию (“Владелец Лабраса”, 1903). Нередко действие в произведениях Барохи сродни авантюре и похоже на события приключенческого романа (дилогия о Сильвестре Парадоксе, “Салакаин Отважный”). Писательские размышления не обошли стороной и анархизм, проповедовавший тактику “прямого действия”, “пропаганду фактом” (“Алая заря”, 1904, “Странница”, 1908, “Город туманов”, 1909).
В настоящей статье планируется дать анализ трех основных аспектов концепта действия в творчестве Пио Барохи: действие как самопознание героя (“Путь к совершенству”), действие как жизненная программа (“Борьба за существование”), действие как авантюра (“Салакаин Отважный”). Но для начала следует сделать несколько предварительных замечаний о роли действия в самопознании человека, так как именно этот аспект распространяется и на другие указанные случаи.
О себе самом человек может судить с двух противоположных точек зрения. Согласно первой из них, действительность оказывается результатом выбора: что человек делает, то он и есть; это значит, человека нужно судить по его внешним проявлениям. Принимая во внимание второй взгляд на вещи, должно отметить, что человек представляет собой то, что он есть в возможности: по сути он то, чем может стать. Таким образом, в онтологическом плане возможность всегда превосходит действительность, однако о подлинности существования можно судить только по воплощению возможностей, то есть по той материально-духовной деятельности, в основе которой лежит действие.
Вероятно, каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось заниматься спекулятивными построениями, на собственном опыте испытав коварство вопроса “А что бы Вы сделали, если бы… (родились в другой стране, неожиданно разбогатели и так далее)?”. Чаще всего задаваемый из праздного любопытства и редко требующий серьезного отношения к себе этот вопрос тем не менее способен поколебать душевное спокойствие, и не столько потому, что мало кто любит бросать слова на ветер, сколько из-за той ответственности, которой требует самоанализ и прогнозирование, отвлеченное моделирование собственного поведения без опоры на прошлый опыт. Поэтому самая скучная версия ответа – признание своего незнания – будет и самой правдивой, так как только пережив какое-либо событие, поступив определенным образом в ситуации, можно с уверенностью за себя поручиться. На первый взгляд безобидный вопрос становится настоящим камнем преткновения, если отнестись к нему серьезно и вдумчиво.
Сопряжение действия и самопознания ориентирует личность в первую очередь на этику, нравственность, ведь конечная цель всякого самопознания – определение специфики собственного Я, выявление самости, для чего важно осуществлять моральный самоконтроль, возможный благодаря наличию у человека совести. Действие не может быть нейтральным, а потому его нравственные выводы не менее важны, чем практические результаты. Обыденное сознание ассоциирует действие в первую очередь с поступками, которые вписываются или не вписываются в парадигму повседневности, становятся фатальными или проходят незамеченными, однако любой исход – независимо от результатов – предполагает изменение (себя ли, действительности, будущего). Действие – это не только внешние модификации предмета или механические движения, но оно подразумевает под собой и интеллектуальный труд; деятельность не сводится лишь к своей практической стороне.
Все вышесказанное означает, что действие может иметь множество интерпретаций в самых различных областях знаний, не всегда сопровождающихся философствованием. Обычные, каждодневные действия – это дела, действия с большой буквы – деяния, и те и другие образуют действительность. Метафизическое толкование понятия “действие” уместно в такой системе субъектно-объектных отношений, когда субъект делает объектом самого себя, то есть при самопознании.
Действие как основной метод самопознания человека способствует адекватному самовосприятию, препятствует мифологизации собственного образа и помимо анализа своих поступков может осуществляться через творчество, через сравнение себя с идеалом (самосовершенствование), через анализ собственной души (исповедь/ покаяние). В художественной литературе это связано с жанрами дневника, писем, автобиографии, исповеди, то есть теми жанрами, которые предполагают повествование от первого лица, исповедальность интонации, психологическое раскрытие образа рассказчика. Своего логического завершения синтез действия и психологизма достигает в начале ХХ века, когда художественным фактом стала так называемая “психология через жест”, наиболее ярко представленная в романистике Пио Барохи и считавшего себя его учеником Эрнеста Хемингуэя.
Исследователей творчества Барохи3 неоднократно ставил в тупик тот факт, что писатель провозглашал действие идеалом, казалось бы, независимо от его ценностной и целевой ориентации, о чем наиболее красноречиво свидетельствует авторская установка “действие ради действия”. Хотя в этом подходе можно без труда обнаружить определенную долю преувеличения преимуществ действия перед его антиподами – бездействием, суесловием и безволием, тем не менее логика в этом теоретическом построении присутствует. Выбирая действие ради действия, герои Барохи тем самым встают на путь самопознания, символизирующего либо переоценку ценностей (“Путь к совершенству”, “Владелец Лабраса”, “Ярмарка скромников”, “Древо познания”), либо осмысление собственной жизни (“Салакаин Отважный”), либо служение высшим идеалам (“Или Цезарь или ничто”), либо жизненную программу (дилогия о Сильвестре Парадоксе, “Борьба за существование”). Все умозрительные недостатки тезиса “действие ради действия” нивелируются логикой жизни, которая всегда сильнее логики художественных построений, а декларативные суждения персонажей, в том числе и “сильных личностей”, сглаживаются их поступками: излишнее вольнолюбие и бескомпромиссность “манифестов” отпадают, действие выявляет истинную сущность и намерения героев.
Не вызывает сомнений, что действие понимается шире механической деятельности. Это явствует хотя бы из того, что концепция действия не всегда коррелирует с фигурой человека действия, авантюриста; мыслитель, философ с тем же основанием может быть назван этим именем, что и деятельный эпический герой-демиург. Действие может трактоваться в высоком плане как рыцарская авантюра и в низком – как плутовская проделка; к размышлениям героя оно может давать импульс, позволяющий считать действие приемом самопознания, или становится ключом к пониманию персонажа в том случае, если высказывания какого-либо действующего лица явно превосходят своей глубиной его способности к самоанализу, а выводы о сущности персонажа предстоит делать читателю на основе поступков (действий) героя. В романах, где действие возможно трактовать как метод самопознания, действие приобретает специфические оттенки – нравственный (этический), исповедальный и в таких произведениях Барохи, как “Путь к совершенству”, “Борьба за существование”, “Салакаин Отважный”, способствует более глубокому пониманию как героев, так и романной ситуации в целом.
Уже само название “Путь к совершенству” ориентирует читателя на проблематику самопознания, так как совершенствование, стремление приобщиться к идеалу (а вернее, избавиться от внутренней тревоги и недовольства собой) облекается автором в метафору пути, дороги, вехами которой будут прошлые и настоящие поступки, постоянная работа над собой, выявляющая аксиологические установки человеческой натуры, объясняющая человеку его самого. Роман о Фернандо Оссорио примечателен тем, что здесь читатель сталкивается практически со всеми основными методами самопознания. Разумеется, не все эти методы сводятся к действию, однако именно тезис “действие как самопознание” становится определяющим для понимания героя. Роман построен так, чтобы постепенно приближать к читателю образ Оссорио. Для этого автор сначала прибегает к свидетельству постороннего лица – назовем его Рассказчиком, учившегося вместе с Фернандо на медицинском факультете; потом воспроизводит записи из некой тетради неизвестного происхождения (то ли рукописи, то ли собрания писем); наконец, повествование ведется от лица самого героя (главы XLVI-LVI), далее слово снова берет всезнающий Рассказчик.
Самосовершенствование не позиционировалось героем с самого начала как удел всей его жизни, он бы и не задумался о нем, если бы не оказался в глубоком духовном кризисе, порожденным противоречием между Духом и Природой (Натурой). Найти золотую середину, как это всегда случается, очень и очень непросто, а между тем два божества - Дух и Природа – буквально разрывают Фернандо пополам, не гарантируя ни успокоения, ни спасения. Болезненно воспринимаемые проявления животных инстинктов и устремленность в глубины мистики (роман носит подзаголовок “Мистическая страсть”/ pasión Mística), привычка к самоанализу определяют жизненную ситуацию Фернандо в начале романа. Борьба с чем-то одним в пользу другого для героя невозможна, так как “у него не было ни желаний, ни воли, ни сил, и он отдал себя на волю течения” (Бароха, 1912, 37).
Такое попустительство не приводит ни к чему хорошему: неудовлетворенность собой едва ли не доходит до мыслей о самоубийстве, по крайней мере, суицидального безразличия к жизни Фернандо достигает: “По временам ему хотелось заснуть навсегда. Провести всю жизнь в приятном сне – какое блаженство! А если сон будет без сновидений, - и еще того лучше” (Бароха, 1912, 154). Эти явно упаднические мысли, мотивы тоски и безысходности доминируют на протяжении большей части романа, до тех пор, пока герой не понимает себя через действие и не научается ценить жизнь.
Первым испытанием на пути к совершенству для Фернандо становится крах чудо-ребенка, обладавшего всеми задатками гения и обычно сопровождающими их иллюзиями родителей, “а вывод из всего этого тот, что благодаря воспитанию из меня сделали дегенерата” (Бароха, 1912, 6-7), - заключает Фернандо.
Вторым пробным камнем личности Оссорио становится творчество, а именно живопись. Триада “творчество – действие – самопознание” требует особого рассмотрения, так как каждый из заявленных в ней феноменов слишком обширен сам по себе, а в указанном контексте претендует едва ли не на полный охват действительности. В самом деле, под понятие творчества можно подвести всякую произвольную активность человека, его нравственное, эстетическое совершенствование, материально-духовную культуру, научную деятельность. Действие тоже возможно трактовать настолько широко, что в разговоре о нем постоянно необходимо уточнять контекст и набор представлений. Статус самопознания также варьирует в зависимости от точки зрения: то оно объявляет творчество и действие своими методами (составными частями), то становится дополнительным откровением в процессе творчества и действования. Словом, связи элементов обозначенной триады настолько взаимопроницаемы и взаимообуславливающи, что говорить об их первичности/ вторичности по отношению друг к другу непринципиально.
Для Фернандо Оссорио творчество не становится мукой, но и не несет с собой избавления. Автор подробно описывает лишь одно творение художника - картину “Часы молчания”, производящую и без визуального контакта достаточно удручающее впечатление:
“Прошло несколько лет. На художественной выставке я увидел картину Оссорио, помещенную в залах верхнего этажа, где было собрано все самое худшее – худшее по мнению жюри.
Картина изображала бедно обставленную комнату с зеленой софой и повешенным над ней олеографическим портретом. На софе сидели два высоких бледных молодых человека, элегантно одетых, и девушка пятнадцати-шестнадцати лет; девочка в коротком платьице, тоже одетая в черное, стояла рядом, опершись рукой о плечо старшего брата. Из открытого окна виднелись крыши какого-то торгового города, небо, перекрещенное проволоками и толстыми проводами, и дым сотен фабричных труб, медленно подымавшийся по воздуху. Картина называлась “Часы молчания”. Она была написана неровно, но во всей ней чувствовалась атмосфера сдержанного страдания, тоски, что-то неопределенно-болезненное, тяготившее душу.
Становилось страшно при виде этих одетых в траур юношей, сидевших в заброшенной печальной комнате, в то время как тут же, перед ними, кипела жизнь и работа громадной столицы. Бледные, длинные аристократические лица всех четырех говорили об утонченности и изысканности, и чувствовалось, что в этой комнате произошло что-то очень тяжелое – быть может, разыгрался печальный эпилог чьей-то жизни. Случайно угадывалось, что их ждет в будущем какая-то ужасная катастрофа, что эта огромная, покрытая трубами столица-чудовище пожрет осиротелых детей” (Бароха, 1912, 8-9).
Как видим, картина коррелирует с настроением автора – художника-дилетанта Оссорио, так как он в какой-то степени опирается на собственный духовный опыт, окрашенный в те же тона, что присутствуют в палитре “Часов молчания”. Связь “творец – творение” обнаруживает внутреннюю сущность творца, что позволяет читателю приблизиться к пониманию образа главного героя романа. Как говорит сам Фернандо Рассказчику, “у меня нет никакого идеала – понимаешь? Я верю, что искусство, и вообще то, что мы поучительно называем этим именем, не сводится ни к каким решительно правилам, а есть просто-напросто сама жизнь: это дух вещей, отраженный в духе человека (курсив мой. – М.С.)” (Бароха, 1912, 10).
Творчество в определенном смысле – это всегда разговор о себе, постижение самого себя, в какой-то мере облегчение. Обо всем этом задумывается псевдозритель, да и сам Фернандо связывает свое состояние с изображенным на холсте (“искусство это дух вещей, отраженный в духе человека”). Но хотя Оссорио и отдает себе отчет в наличии этой связи, творчество не становится для него тем поворотным пунктом, с которого начинается новый отсчет времени. Он не познает ни радостей, ни мук творчества, а его участие в выставке – скорее счастливая случайность, чем закономерный исход работы художника. Фернандо приходит к творчеству не сознательно: он не готов целиком отдаваться ему – его интерес к живописи продиктован рассеянным вниманием и увлечением дилетанта, а не серьезностью и жертвенностью истинного творца. О том, что это так, с окончательной достоверностью становится известно в конце романа, когда Фернандо задумывает написать портрет своей невесты Долорес, однако, промучившись некоторое время, находит остроумный выход из положения: делает фотографический снимок девушки и ретуширует его.
Самое главное – и сложное – испытание в жизни героя связано с возвращением в прошлое, которое заставляет по-новому взглянуть на настоящее. События в жизни Оссорио повторяются, но выводы из одних и тех же ситуаций герой делает различные. И то, что выводы эти различны, свидетельствует об успешном продвижении героя по пути к совершенству.
Две героини: девушка из прошлого Ассенсион и девушка из настоящего Адель – встречаются Оссорио в сходных обстоятельствах, разрешение которых очевидно. Прогнозирует исход ситуации и сам Фернандо, цинично рассуждая о силе естественного влечения, которое оправдает аморальность любого поведения:
“-Девушка (Адель. - М.С.) моя, - думал он. – Это несомненно. Долой стеснения. Мораль – это глупость. Удовлетворить желания, отдаться на волю инстинкта – гораздо более нравственно, чем мешать ему.
- Это значит, - говорил он, - что жизнь хочет следовать своему пути. Кто я такой, чтобы задерживать ее течение? Отдадимся лучше бессознательному. Ведь в сущности говоря добродетель смешна, тщеславна. Я чувствую импульс, влекущий меня к ней, и она чувствует такой же импульс, толкающий ее ко мне. Импульс этот вызвали не я и не она. Так зачем же противиться ему?
- Правда, для нее могут быть последствия, каких не существует для меня. Быть может, они испортят всю жизнь этой бедной девушки с монашеским лицом. Но что же из того следует? Ровно ничего. Нужно быть слепым. Подобная забота о другом – признак трусости…” (Бароха, 1912, 223-224).
Фернандо действует по усвоенной с юности схеме, “когда его, еще мальчиком, обучали катехизису, его в то же время учили смотреть на мужчину-соблазнителя как на изящного, ловкого малого, учили презирать соблазненную женщину и смеяться над обманутым мужем. Он не мог выйти из-под влияния традиции этого лицемерного, жестокого города (Йекоры. – М.С.). Он овладел девушкой в минуту увлечения, не останавливаясь на мысли, что может быть именно она-то и даст ему счастье. Он с удовольствием выслушивал поздравления друзей, а когда узнал, что отец Ассенсион ищет его, - поспешил скрыться” (Бароха, 1912, 246). На самом же деле Оссорио со временем преодолевает влияние дурного воспитания. “Естественное влечение” к Адель оказывается бессильным перед совестью, моральным самоконтролем человека. Фернандо не без удивления обнаруживает, что управляет его поведением именно совесть, а не животные инстинкты:
“Теперь он уже начинал чувствовать настоящее удовольствие, что он не дал своим инстинктам победить себя. Нет, нет: он не только животное, слепо исполняющее закон природы – в нем живет дух, живет совесть” (Бароха, 1912, 227).
Действие в данном случае уместно назвать этическим, так как именно нравственность, предполагающая относительную свободу воли, обеспечивает возможность сознательного выбора определенной позиции, принятия решения и ответственности за содеянное.
Отказ от старой системы ценностей, добровольный отказ от вмешательства в чужую жизнь проводит границу между “природным” и “духовным” Фернандо. Самосовершенствование в случае Оссорио – уход от Натуры к вершинам Духа, с чего и начинается самопознание героя. Этот процесс таков, что требует не только пересмотра настоящего и будущего, но и относительной корректировки прошлого, как бы абсурдно это ни звучало. Случай с Адель важен в контексте романа еще и как повод вернуться к истории с Ассенсион, а для Фернандо – еще раз осмыслить свой поступок. Новое отношение к себе и жизни сопровождается опоздавшим на несколько лет раскаянием и тоской по возможно утраченному счастью. Фернандо морально необходимо покаяться, получить отпущение грехов, дойти до той степени самоуничижения, которую предполагает личная исповедь, подхваченная и повторенная другими на свой лад. Оссорио разыскивает Ассенсион, пытается оправдаться, но ей чужд исповедальный пафос героя: ее-то время не способно вылечить. Ассенсион научилась жить со своей болью, и для нее неожиданное появление Фернандо – причиняющее страдание напоминание о произошедшем с ней несчастье, а слова Фернандо о счастье – кощунственный цинизм:
“- Я дурно поступил с тобой, но ты оказалась счастливее меня, - пробормотал Фернандо.
- Убирайся! Я не хочу тебя слушать.
- Отчего? Ведь из нас обоих я самый несчастный.
- Ты – несчастный! А я-то тогда что же?
- Ты не хочешь меня выслушать?
- Нет.
- Ты жестокая.
- А ты не был разве жесточе меня?
- Но судьба за тебя отомстила… Ты счастлива.
- Счастлива! – пробормотала Ассенсион с горькой улыбкой” (Бароха, 1912, 252-253).
Для обновленного Фернандо обидна и непонятна резкая отповедь Ассенсион; его стремление просить прощение также неуместно с точки зрения героини, как и с точки зрения Фернандо неуместны ее упрямство и ненависть. Чем тяжелее далось Оссорио покаяние, вернее, его попытка, тем лучше будет усвоен урок Ассенсион, который Фернандо формулирует для себя следующим образом: “Если бы у меня было доброе сердце, она бы меня простила” (Бароха, 1912, 254). Трудно предположить, на что рассчитывал Фернандо, отправляясь к Ассенсион, но эта встреча имеет все признаки неудавшейся исповеди, то есть того, чего герой ожидал менее всего.
Фернандо добровольно решается на довольно болезненное испытание, и ему приходится труднее, чем простому грешнику. Ведь у всякого грешника есть уверенность в том, что он получит отпущение грехов, будет прощен, если же порок окажется сильнее (возможно, в очередной раз сильнее), то новое покаяние принесет новое избавление от мук совести. Фернандо же раскаяние не приносит облегчения; пожалуй, единственное утешение, которое возможно в данной ситуации, - мысль о том, что он нашел в себе силы дойти до конца, до унижения и оправданий, хотя возможность отказа с самого начала была сильнее и неизбежнее, чем согласие выслушать. Однако неудача с Ассенсион не умаляет значение потерпевшей фиаско исповеди, так как нравственное действие дает импульс в обе стороны – прошлое и будущее. Раскаяние не проходит бесследно, Фернандо словно получает право жить дальше и быть счастливым: “В физическом мире все неисправимо; напротив, в мире моральном исправимо все” (Бароха, 1912, 298). Возвращение к событиям прошлого, переосмысление своего поведения (иначе зачем тогда герой предпринял розыск Ассенсион?) дают Оссорио ту моральную опору, которая позволяет двигаться дальше. Исповедь неразрывно связана с этикой, и остальной путь Фернандо к совершенству оказывается нравственным, этическим.
Исповедь включается в роман и в качестве жанрообразующего элемента: в главах XLVI-LVI повествование ведется от лица главного героя. Автор романа не прибегает ни к каким маскирующим приемам (повествование от первого лица обрывается так же неожиданно, как и начинается), но цель использования этого приема прозрачна – возможно более глубокое постижение образа Оссорио.
Жизнь Фернандо постепенно нормализуется:
“Несмотря на все мои усилия, я еще не отделался от аналитического зуда, и, хотя я спокоен и доволен, я анализирую мое хорошее настроение.
Дала ли мне душевное равновесие какая-нибудь здоровая идея, овладевшая сознанием, спрашиваю я себя, - или душевный мир я нашел бессознательно, во время моих прогулок по горам, на свежем, чистом воздухе?
Как бы то ни было, вот уже две недели, как я здесь, и я начинаю уставать от счастия. Бодрый духом и телом, я не чувствую прежней нерешительности, которая совершенно парализовала мою волю; и, - как это ни глупо, и как ни негодую я за это на самого себя, - иногда я тоскую по своим прежним скорбным идеям, по своим былым душевным мукам. Это уж действительно верх глупости…” (Бароха, 1912, 319).
Действие, в каком бы виде оно ни было представлено, расставляет приоритеты Фернандо. Герой начинает адекватно воспринимать и оценивать себя; проходит злоба на жизнь и недовольство матерью-природой; пробуждается воля. Основы существования найдены в Валенсии, где Фернандо останавливается в доме своего дяди и окончательно очищается “трудом и жизнью в деревне” (Бароха, 1912, 374). Старые ценности, ранее отвергнутые в силу их общепринятости и традиционности, теперь влекут к себе героя:
“Фернандо чувствовал, как в его душе и теле, словно поток глубокой чистой реки, растет мощное, сильное желание любви. И, замечая, что начало этого потока жизни и любви теряется где-то в бессознательном, он думал, что он – это как бы ключ, бьющий из недр природы и отражающийся в себе самом, а Долорес – большая река, в которую он впадает” (Бароха, 1912, 361).
В контексте судьбы Фернандо свадьбу с Долорес можно считать одновременно и социальной смертью и вторым рождением героя. Преодоление мистических устремлений духа, “аналитического зуда” перекрывает путь к высшему откровению, к раскрытию и утверждению задатков чудо-ребенка, к беспокойной жизни гения. С другой стороны, то, что способность к счастью оказалась сильнее способности к страданию, не может и не должно порицаться с точки зрения обычной человеческой жизни. Путь к совершенству получается дуалистическим: это либо путь от Природы к Духу (творчество, мистика), либо путь от духа к Природе (философия буржуа). Душа Фернандо открыта восприятию обеих возможностей:
“Сам он уже не мог с корнем вырвать из своей души ни этого мистического стремления к неизвестному и сверхъестественному, ни культа красоты и увлечения формой. Но он надеялся, что в сыне его “я” окрепнет и избавится от них” (Бароха, 1912, 375).
“Путь к совершенству” может быть прочитан как своего рода роман воспитания, в котором герой идет к себе самому, идет через творчество, нравственное действие, исповедь, преодолевая “истерическое влияние” (Бароха, 1912, 15) своей семьи, отвращение к жизни, “естественные” инстинкты, безволие и апатию. В итоге он находит счастье “на обычных путях” (Шатобриан), на тех самых путях, которые не подвержены влиянию сверхъестественного или преходящего.
Пример Фернандо Оссорио демонстрирует, что действие не исключает внутренней, духовной жизни, не исключает работы мысли. Действие, понятое как следствие определенной программы, претендует на звание идеологии. Наиболее ярким и последовательным идеологом действия в творчестве Барохи является второстепенный герой трилогии “Борьба за существование” Роберто Гастинг.
Апология индивидуального действия становится той идеей, к которой герой так или иначе возвращается в своих высказываниях. Сторонник решительных мер и противник всякого безволия, он на собственном примере учит применять философию активизма на практике. Гастинг не является заложником непрерывного действия, каким будет, например, Мартин Салакаин; его действиям предшествует конкретный план, и, верный своим принципам, Роберто не без оснований считает себя сильной личностью, за которой будущее и победа. Подспудно ощущаемое “победителей не судят” в любом декларативном заявлении Гастинга определяет жизнь в категориях социального дарвинизма, а именно как борьбу за существование, ведущуюся по законам естественного отбора. Механическое, бездумное следование этим тезисам может далеко завести человека, по крайней мере, увести далеко в сторону от норм морали, сострадания ближнему, слабому, безвольному. Слабые вызывают особенно сильное презрение и антипатию Роберто, ведь для него “действительна лишь борьба внутри самого человека. Главное – привести в действие волю, энергию, пробудить инстинкт бойца, который есть у каждого” (Бароха, 1964, 238). Некритический, прямолинейный подход к высказываниям Роберто чреват однозначной трактовкой образа этого героя как профашистски ориентированного эгоиста, одобряющего диктатуру и естественную жестокость, ведь “для самоутверждения расы необходимо, чтобы умерло большое число индивидов” (Бароха, 1964, 237). На деле же все совсем не так, и упрощенческая интерпретация вредит больше, чем “самоутверждение расы”.
Направление деятельности Роберто оказывается не разрушительным, а созидательным и этическим. Все возможные разрушения оправданы моральными соображениями и в конечном итоге совершаются во благо. Залог тому – следующее признание Гастинга: “У меня есть совесть. Может быть, она такая же прямолинейная, как мои стремления; пусть так” (Бароха, 1927, 139).
Роберто не знает поражений на своем пути, так как его деятельность постоянно подкрепляется размышлениями: “Знаешь, как можно добиться свободы? Во-первых, надо иметь деньги, во-вторых, надо уметь мыслить” (Бароха, 1964, 115). Гастинг счастливо достигает и того и другого: он доказывает свои права на огромное наследство и непрерывно занимается спекулятивными построениями более или менее глобального характера об испанской “почве”, фатальности национальных испанских свойств, о будущем устройстве общества.
Общеизвестно, что умственные построения уязвимы тем, что нередко практическое воплощение едва ли не уничтожает первоначальный замысел. Практика выявляет дистанцию между словом и делом и таким образом указывает на несостоятельность ложной идеи. Не подтвержденная делом жизненная позиция, опирающаяся на априорные данные, не всегда соответствует нравственным принципам человека, которые он может и не осознавать таковыми до тех пор, пока обстоятельства не поставят его в ситуацию выбора. В ситуации же выбора срабатывают какие угодно механизмы (морали, корысти, чести), но никак не размышления “на случай”, нередко безответственные. Выбор предполагает действие, решение в пользу тех или иных доводов, выдвигает на первый план истинные устремления и ценности человека. Логичная и убедительная теория в любой момент может быть опровергнута практикой, действительностью.
Именно поэтому восторженный апологет индивидуального действия не чужд сочувствия людям, хотя не признается в этом ни себе, ни другим. Однако его поступки говорят красноречивее слов: Роберто становится якорем спасения для Эстер Волович (“Сорная трава”), помогает встать на ноги Мануэлю Алькасару (“Алая заря”), то есть исключительно действие вскрывает подлинные мысли и намерения героя, объясняет его читателю.
Видимая компрометация действия в романах Барохи обманчива. Действие не следует понимать исключительно как непременный атрибут сильной личности, сверхчеловека, поскольку оно возможно лишь в категориях морали, лишь в установленных рамках ценностей и внятного понятия о Добре и Зле. Бароха не принимает морали сверхчеловека, какой бы привлекательной она ни была, хотя ницшеанство оказало на писателя известное влияние и ощутимо в некоторых его произведениях; он сознательно не доводит до конца апологию действия. Герой Барохи – человек действия – лишен демонических черт, так как он прежде всего гуманен и действует не из желания опробовать на практике ту или иную идею, а побуждается обычными человеческими чувствами – голодом, страхом, любовью, состраданием. “Внутренний анархист” (Бароха, 1964, 116) Роберто приходит к выводу, что действие уместно только в общепринятых и допустимых законом формах, а борьба за власть естественнее всего выглядит в сфере политики: “Если я приеду в Англию и ввяжусь в политику, то только как консерватор” (Бароха, 1964, 116).
Хотя внутреннему миру Роберто Гастинга автор трилогии уделяет меньше внимания, чем исследованию души Фернандо Оссорио, Гастинг более претендует на звание мыслителя, чем художник. Роберто постоянно анализирует обстоятельства, он не возвращается то и дело к собственной персоне, так что об активизме возможно судить скорее по внешним проявлениям, чем по внутренним манифестациям. Однако в творчестве Барохи есть феноменальный пример героя, который знает больше, и о себе в том числе, чем в состоянии понять. Речь идет о Мартине Салакаине из Урбии (“Салакаин Отважный”).
Синтез традиций мировой литературы – эпической, плутовской и в меньшей степени рыцарской, определивший жанровое своеобразие “Салакаина Отважного”, предполагает большой удельный вес действия в романе, так как и эпос, и пикареска, и рыцарский роман подчинены стремительному развитию событий, смене декораций, авантюр и приключений. Сплав различных жанров – первое и, пожалуй, самое смелое нарушение норм в романе, предопределяющее другие, не менее значимые противоречия. Так, Мартин оказывается более сыном своего предка, рыцаря и аристократа, чем родного отца, темного крестьянина; он не размышляет ни о собственной судьбе, ни о предназначении, хотя только его автохарактеристики объясняют читателю сущность этого образа; он всю жизнь действует в своих интересах, однако мечтает о всеобщем счастье. В основу самообъяснений Мартина положено понятие действия; только соотнеся поступки персонажа с идеалом героев подобного рода – Одиссеем или Роландом, поместив их в эпическую систему координат, можно выявить и оправдать жизненные установки Салакаина. Действие уподобляется лакмусовой бумажке и расставляет по своим местам ценности, отбрасывает все ненужное.
Как уже было отмечено, понять гуманистическую направленность устремлений Салакаина удастся лишь в контексте высказываний самого героя, в противном случае его характер остался бы для читателя полной загадкой. Подчиненная постоянному действию и приключениям, жизнь Салакаина, казалось бы, не то чтобы не оставляет места, но даже не предполагает по своей авантюрной логике никаких размышлений, рефлексии и объяснений. Салакаину было бы настолько же трудно четко и внятно сформулировать словами свою “программу”, насколько трудно было бы его менее активному современнику следовать ее положениям. Везде в книге, где присутствует хотя бы намек на внутренний мир героя, появляется недосказанность или, скорее, невысказанность: собственную сущность Салакаин постичь не в состоянии, а потому самым частым чувством, испытываемым героем в перерывах деятельности, становится томление и зуд. “Оседлая жизнь его томила” (Бароха, 1973, 598) – этим и подобными ему выражениями характеризуется внутреннее недовольство героя окружающей его действительностью.
Мотивы страдания, неопределенности, интуитивности сопровождают как раз те выводы, к которым Мартин мог прийти самостоятельно, без помощи всезнающего автора. У Салакаина нет ни должного образования, ни подобающего воспитания, чтобы относиться к себе как к объекту познания. Он живет тем, что чувствует, что доступно его опыту и что с каждым разом все более и более приводит героя к сознательно декларируемому и выполняемому. Восторженная увлеченность приключениями, авантюрами, подвигами, интригами уступает место серьезному отношению к возможностям действия: “Я часто думаю, что придет день, когда люди смогут использовать свои страсти для чего-нибудь хорошего” (Бароха, 1973, 605-606). Для такого заявления, пусть отчасти и утопичного, нужно в значительной степени абстрагироваться от личной судьбы и забот, возвыситься над настоящим, преходящим моментом, встать на путь созидания.
Для Салакаина внешним побудителем к раздумьям об общечеловеческих ценностях становится война как ситуация, требующая бескомпромиссного и быстрого выбора. В условиях войны познание мира, самоопределение и признание той или иной системы ценностей ускоряется, делается более значимым и сущностно необходимым. И необязательно речь должна идти о враждующих лагерях или армиях. Например, Салакаину удается сохранить независимость: формально он не примыкает ни к либералам, ни к карлистам (фон романа – вторая карлистская война 1872-1876 годов), однако служит он делу мира, всеми силами приближая победу, одержанную, как известно, либералами.
Представления героя о войне претерпевают в романе значительную метаморфозу – от мальчишеских фантазий (он видит себя “в лесах Наварры и Гипускоа во главе вооруженного отряда – они живут в вечном напряжении, всегда настороже, совершают форсированные марши, жгут вражеские деревни…” (Бароха, 1973, 524)) до мечты о том дне, “когда люди смогут использовать свои страсти для чего-нибудь хорошего”. Трагедия Салакаина в том, что война, экстремальное время для большинства людей, для него – единственно возможный образ жизни в силу того, что дает герою шанс полностью самореализоваться, чего мирное существование не может дать по определению. Война – это время переустройства миропорядка, время опасностей, великих свершений и подвигов, деятельности как таковой, то есть тот жизненный идеал, которого требует энергичная натура Салакаина.
В конце романа отношение героя к действию изменяется, но не потому, что действие не генерируется из ничего, и Салакаину самому “придется выдумать себе какие-нибудь новые дела и заботы” (Бароха, 1973, 605), не потому, что жизнь обманывает его ожидания и обрывается в самом расцвете лет и сил, а потому, что не всякое действие оправдано с точки зрения полезности и созидания мира. И хотя Салакаин Отважный понимает себя лишь через связь с действием (“Я рос сам по себе, как трава, и мне просто необходимо действовать, все время действовать” (Бароха, 1973, 605-606)), он не смотрит на действие как на однозначную, несомненную ценность, так как личный опыт, пример собственной судьбы убеждают его в обратном: в действии важна не столько авантюрно-плутовская составляющая, сколько эпически серьезное служение общему благу.
Рассмотренные примеры демонстрируют читателю образы сильной личности в произведениях Пио Барохи. Все эти случаи, как уже было отмечено, давали повод многочисленным исследователям творчества Барохи уличить писателя в непоследовательности и несостоятельности философии действия, на что, по их мнению, в первую очередь указывало расхождение идеологии персонажей и ее воплощения в романе. При поверхностном взгляде это упреки кажутся справедливыми: поборники индивидуального действия либо погибают молодыми (Салакаин), либо становятся добропорядочными буржуа, допускающими лишь отвлеченные рассуждения (Оссорио, Гастинг). Но действие само по себе не обессмысливается, даже если конец героев не столь эффектен, как высказанные ими взгляды, так как излишнее теоретизирование в художественной литературе чревато схематичностью и иллюстративностью.
В творчестве Барохи 1900-1912 годов, то есть того времени, которое сам писатель называл периодом “бури и натиска”, культ действия становится ядром, группирующим вокруг себя основные политические, философские, эстетические проблемы эпохи. Концепция действия в произведениях писателя во многих случаях становится организующей силой повествования, сказывается на мировоззрении персонажей и на уровне поэтики. Основные подходы к пониманию действия возможно классифицировать и представить как 1) авантюру (романы плутовского генезиса), 2) самопознание героя (жанровая модификация романа воспитания), 3) эпическую характеристику персонажа, испытание и самоутверждение героя (романы о так называемых “сильных личностях”). Разумеется, сведение в систему учитывает не все нюансы; с другой стороны, оно не стремится изолировать один аспект действия от другого. Скорее наоборот, границы между элементами системы оказываются взаимопроницаемыми, более того, обнаружить элемент в “чистом виде” оказывается весьма проблематичным. Предложенная классификация основывается на доминирующем признаке, что, естественно, никоим образом не исключает возможного присутствия остальных элементов.
Действие привлекает Бароху в разных своих аспектах, но общим моментом для понимания этого концепта становится та доминанта, что связана с самопознанием. И Оссорио, и Гастинг, и Салакаин постигают себя, а через себя и окружающий мир, только начав действовать. Такая постановка проблемы снимает однозначную интерпретацию действия как антипода размышления, созерцания, насыщенной внутренней жизни и выводит его на качественно новый уровень понимания, трактующего действие в категориях практически-духовной деятельности как творение не столько объектов материальной культуры, сколько себя и собственной жизни.
ПРИМЕЧАНИЯ
*Исследование осуществлено при поддержке Фонда содействия отечественной науке.
1 Аспекты концепта действия затронуты в следующих работах (Батищев, 1969; Бергсон, 2001; Пациорковский, 1975; Спиркин, 1972; Comín Colomer, 1956).
2 Сильвестр Парадокс – герой романов “Приключения, изобретения и мистификации Сильвестра Парадокса” (1901) и “Парадокс, король” (1906); Фернандо Оссорио – герой романа “Путь к совершенству” (1902); Роберто Гастинг – герой трилогии “Борьба за существование” (1904); Кинтин Гарсиа Роэлас – герой романа “Ярмарка скромников” (1905); Мартин Салакаин – герой романа “Салакаин Отважный” (1909); Сесар Монкада - герой романа “Или Цезарь или ничто” (1910).
3 См. о творчестве Пио Барохи следующие работы (Плавскин, 1964; Степанов, 1973; Martínez palacio, 1972; Ortega y Gasset, 1961; Shaw, 1977).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бароха, 1912 - Бароха П. Путь к совершенству. М., 1912.
Бароха, 1927 - Бароха П. Сорная трава. М. – Л., 1927.
Бароха, 1964 - Бароха П. Алая заря. М., 1964.
Бароха, 1973 - Бароха П. Салакаин Отважный // Унамуно М. де. Туман. Авель Санчес. Валье-Инклан Р. де. Тиран Бандерас. Бароха П. Вечера в Буэн-Ретиро. М., 1973.
Батищев, 1969 - Батищев Г.С. Деятельностная сущность человека как философский принцип // Проблема человека в современной философии. М., 1969.
Бергсон, 2001 - Бергсон А. Творческая эволюция. М., 2001.
Пациорковский, 1975 - Пациорковский В.В. Критический анализ концепций социального действия // Социологические исследования. 1975, №2.
Плавскин, 1964 - Плавскин З.И. Романы Пио Барохи // Бароха П. Алая заря. М., 1964.
Спиркин, 1972 - Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972.
Степанов, 1973 - Степанов Г.В. Унамуно, Валье-Инклан, Бароха – выдающиеся представители европейского реализма // Унамуно М. де. Туман. Авель Санчес. Валье-Инклан Р. де. Тиран Бандерас. Бароха П. Салакаин Отважный. Вечера в Буэн-Ретиро. М., 1973.
Comín Colomer, 1956 - Comín Colomer E. Historia del anarquismo español. Barcelona, 1956.
Martínez palacio, 1972 - Martínez palacio J. Baroja y un personaje de acción: Roberto Hasting // Insula. 1972, №308-309.
Ortega y Gasset, 1961 - Ortega y Gasset J. Ideas sobre pío Baroja // Baroja y su mundo. T.2. Madrid, 1961.
Shaw, 1977 - Shaw D. L. Baroja: angustia, acción y ataraxia // Shaw D.L. La generación del 98. Madrid, 1977.