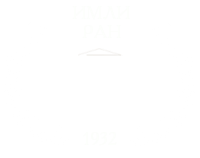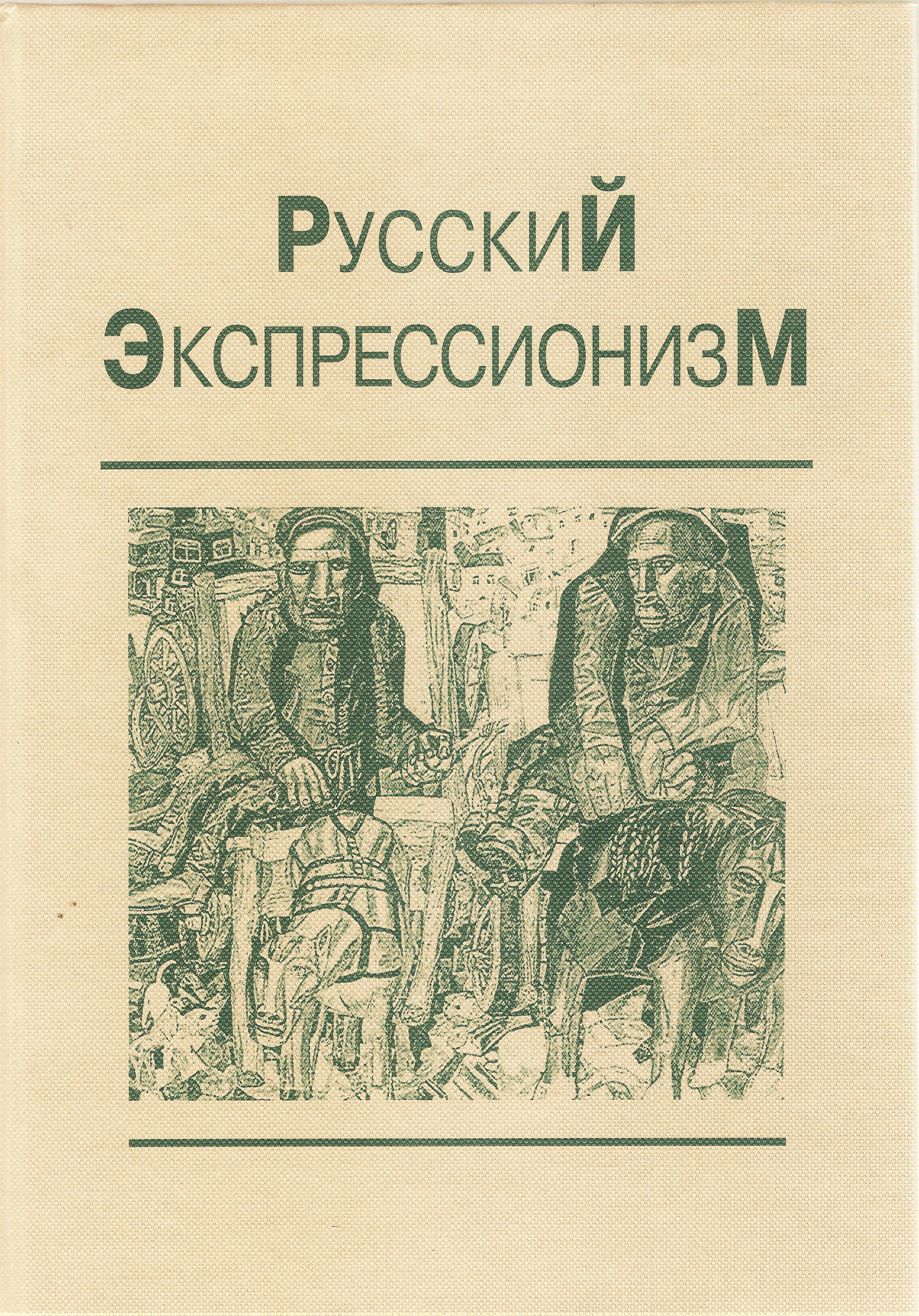
- В.Н. Терёхина
- РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ЭКСПРЕССИОНИЗМ.
Предисловие к кн.: Русский экспрессионизм: Теория. Практика.Критика / Сост., вступ.ст. В.Н.Терехиной. Коммент. В.Н.Терехиной и А.Т.Никитаева. М.: ИМЛИ, 2005. 512 с.
Эспрессионизм как художественное движение не получил на русской почве достаточно цельного программно-теоретического оформления. Характерные для экспрессионизма идеи и образы воплощались в деятельности ряда групп и в творчестве отдельных авторов на разных этапах их эволюции, порою в единичных произведениях. Впервые слово “экспрессионисты” на русском языке появилось в рассказе А. Чехова “Попрыгунья” (1892), героиня которого назвала так художников-импрессионистов: “...преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов” (в качестве названия литературной группы в России термин “экспрессионизм” использован И. Соколовым летом 1919 года).
Сущность экспрессионизма – бунт против дегуманизации общества и утверждение онтологической ценности человеческого духа – была близка традициям русской литературы и искусства, их мессианской роли в обществе, эмоционально-образной экспрессии, характерной для творчества Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Н.Ге, М.Мусоргского. Ощущение неблагополучия жизни, потребность в сверхвыразительных художественных средствах отличали писателей разных направлений – от реализма (Л.Толстой «Смерть Ивана Ильича»,1886; Вс. Гаршин «Красный цветок»,1883; М. Горький «Старуха Изергиль», 1895) до символизма (А. Белый «Пепел»,1909), акмеизма (М. Зенкевич «Дикая порфира»,1912; В.Нарбут «Аллилуйя», 1912) и футуризма (В. Маяковский «Облако в штанах», 1915). Предвосхищавшие экспрессионизм произведения возникали на рубеже веков в обстановке системного кризиса, усиленного поражением в русско-японской войне и разгромом революции 1905-1907 гг. “Россия была больна,- писал А. Блок,-[...] все чувства нашей родины превратились в сплошной, безобразный крик, похожий на крик умирающего от мучительной болезни”. О том, что “катастрофа близка “ и “ужас при дверях”, по словам А. Блока, оповестил современников Л. Андреев, который стремился охватить «жизнь отдельного человека или явления голода, войны, революции», создать поэтику, отличную от «раздробленности, конкретности натуралистического письма» и «робости приемов символизма». «Пусть будет обнажено не только до мяса, но и до самых костей»,- таково творчество Л. Андреева-экспрессиониста. Наиболее ярко новые черты воплотились в рассказе “Красный смех”(1904) - экстатическом произведении, при чтении которого нельзя не почувствовать “неподдельного крика ужаснувшейся и исступленной души, не ощутить себя вовлеченным в вихрь безумного кошмара” (Вяч. Иванов). Рассказ вышел тогда же на немецком языке с предисловием нобелевского лауреата Берты фон Зуттнер (в 1906-1926 в Германии было издано 50 книг Л. Андреева). Постановка пьесы Л. Андреева “Жизнь Человека” (1906), осуществленная В.Мейерхольдом в 1907 в театре В. Комиссаржевской, внесла элементы экспрессионизма на русскую сцену. Режиссер использовал лейтмотив призраков, возникающих из мрака бытия и уходящих в глубь таинственного пространства из серых сукон - впервые форма спектакля создавалась одним светом. Мейерхольд подчеркивал, что не театр рождает драму, а драма рождает театр. «Я для Вашей пьесы,- сообщал он Л.Андрееву,- разбил вдребезги декорации, уничтожил рампу, софиты, разбил все…» Бросив вызов театру психологическому и символистскому, Мейерхольд создал свой «Условный Театр», утвердил искусство «выражения» как прием, типологически сходный с немецкой экспрессионистской драматургией. В другой постановке «Жизни Человека» (Московский Художественный театр, 1907) сценография В.Егорова приходила в противоречие с реалистической разработкой пьесы В.И.Немировичем-Данченко, что проявилось также в режиссуре спектаклей «Анатэма»(1909) и «Мысли»(1913).
Подобно тому, как Л.Андреев “овеществлял” идеи (Некто в сером - судьба, рок) или превращал предметы в аллегории (стена - все, что мешает человеку), М. Врубель искал пластического воплощения “музыки цельного человека”, “интимной национальной нотки”, напряженного колорита и жеста. Психологическая острота образа в сочетании с монументальным постижением формы в таких работах Врубеля, как “Богатырь”(1898), “Демон поверженный”, “Портрет В.А.Мамонтова”, в графических автопортретах и рисунках (1904-1908), обозначила его “метод творческого искажения”. Если позитивизм подобен глазу без взгляда (В. Розанов), то освобождение от “оков предметности” ведет к преобладанию “духовного элемента”, преображенного бытия. В. Кандинский стремился раскрыть зрителю “внутреннюю жизнь картины, дать картине возможность воздействовать непосредственно... И чем менее мотивировано, например, движение внешне тем чище, глубже и внутреннее его воздействие”.
Творчество А. Скрябина стало одним из источников, питавших созвучные немецким экспрессионистам синтетические формы искусства, сочетающие возможности слова, цвета, музыки, пластики во имя обнажения сути окружающего и поиска утопического мира заданного. “Иду сказать людям, что они сильны и могучи”,- под таким девизом А.Скрябин утверждал новый тип симфонизма (“Божественная поэма”, 1904, “Прометей”, 1910). Развивая в программе “Поэмы экстаза” (1908) тему воли, Скрябин писал: ”Я к жизни призываю вас, /Скрытые стремленья! /Вы, утонувшие /В темных глубинах/ Духа творящего, /Вы, боязливые, жизни зародыши,/Вам дерзновенье /Я приношу!”
Особенностью русской ситуации являлось совмещение на коротком отрезке времени разных культурных возможностей. “У искусства путей много»,- подчеркивала художница О.Розанова в манифесте петербургского общества “Союз молодежи”(1913). В 1910-е гг. к оппозиции “реализм - символизм” прибавились такие своеобразные явления как будетлянство, интуитивная школа эгофутуризма, аналитическое искусство П.Филонова, музыкальный абстракционизм В.Кандинского, заумь А.Крученых, неопримитивизм и лучизм М.Ларионова, всечество И.Зданевича, эмоционализм М.Кузмина, музыка высшего хроматизма А.Лурье, супрематизм К.Малевича.
Новое русское искусство было на первом этапе, в 1910-1914 гг., многообразно связано с немецким экспрессионизмом, прежде всего через художников мюнхенского объединения “Мост” и “Синий всадник” - В.Кандинского, А.Явленского, с которыми сотрудничали братья Бурлюки, Н.Кульбин, М.Ларионов, М.Кузмин и др. Важно отметить одновременное знакомство русских и немецких новаторов с трактатом Кандинского “О духовном в искусстве”(1910) и публикацию его текстов в программном сборнике московских кубофутуристов “Пощечина общественному вкусу”(1912). Эстетическое кредо близких экспрессионизму русских художников было выражено Д.Бурлюком в статье «”Дикие” России», напечатанной в альманахе «Синий всадник» (Мюнхен,1912). С поэзией немецких экспрессионистов русских читателей познакомил А.Элиасберг, опубликовавший в 1911-1914 гг. на страницах «Русской мысли» семь обзорных статей.
Русским футуристам были близки исходные моменты экспрессионистского сознания: раскрепощение индивидуума, критика обыденности, утопизм, позиция поэта-пророка, а также стремление расширить сферу искусства за счет презираемых прежде видов массовой культуры - политических штампов, городского фольклора, включая непристойные формы. В разной степени это проявлялось в творчестве В.Хлебникова, В.Маяковского, Д.Бурлюка, Б.Пастернака. Так, Йозеф фон Гюнтер, сотрудничавший в 1910-е годы в журнале “Аполлон”, относил к экспрессионистам почти всех, “преодолевших символизм”, прежде всего футуристов. При встрече с В.Я.Брюсовым, по его словам, “разговор перешел на русский экспрессионизм, называемый русскими футуризм”. При этом Лео Маттиас отмечал в книге «Гений и безумие в России»(Берлин,1921): «[…]Брюсов в русской литературе является тем же, чем Генрих Манн у нас. Маяковского же можно сравнить с Иоганнесом Бехером».
Для обозначения новых явлений русская критика использовала иные понятия - “импрессионизм”, “мистицизм”, “романтизм”, “синтетизм”, “анархизм”, «неореализм» и т.п. Андрей Белый считал Л. Андреева футуристом (до футуризма), Маяковского и Хлебникова - “неосознавшими себя мистическими анархистами”. Как известно, самоназвания групп Гилея, Интуитивной школы эгопоэзии, Мезонина поэзии и Центрифуги, составлявших основу русского литературного футуризма, не были связаны с итальянскими источниками. В их декларациях и творческой практике обнаруживалось наибольшее совпадение с экспрессионизмом в пересмотре традиции, в поиске нового чувства жизни, в антиэстетизме. Созерцание своей жизни как трагедии, в которой поэт выступает в роли проповедника, низвергающего богов во имя человека и вселенской гармонии, гиперболизация чувств и образов, профетические мотивы широко распространились в творчестве Маяковского («Облако в штанах», 1915; «Человек»,1917) в произведениях В.Чекрыгина “Преодоление плоти духом”(1912), “Воскрешение”(1921) - оба автора были знакомы с идеями “Философии общего дела” Н.Федорова.
Иной космогонический миф создавал М.Шагал в полотнах “Я и деревня”(1911), “Канун судного дня”, “Продавец скота”(1912), “Над городом”(1914-1918), объединив в напряженной одухотворенности как равноправных - людей, зверей, землю и небеса. П.Филонов, формулируя теорию аналитического искусства, исходил из традиций народного примитива и живописи Босха, Брейгеля, становясь главой русской школы экспрессионистов». На его картинах “Апокалипсис”, “Пир королей”(обе-1913), “Коровницы”(1914) - страдальчески перекошенные лица и фигуры людей с ободранной кожей, похожие на анатомические препараты. Русский вариант экспрессионизма представлен в творчестве неопримитивистов и лучистов группы М.Ларионова. На их выставках “Ослиный хвост”, “№4” преобладали мотивы “заборной живописи” и маргинальные сюжеты из солдатской жизни, мещанского быта, ибо “экспрессионизм растет и питается из хаоса человеческих отношений”. Преображенные художником традиции иконописи и народной картинки отличали живописные циклы Н.Гончаровой «Евангелисты», «Сбор урожая». На скрещении противоборствующих тенденций - тяги к уродливому, мрачному, искаженному и воспроизведению конкретных впечатлений в духе гиперреализма - развивалось творчество Б.Григорьева. К явлениям экспрессионистской поэтики следует отнести некоторые работы Ю.Анненкова, А.Древина, Б.Королева, О.Розановой и др. На Первой русской художественной выставке в Берлине осенью 1922 г. существовал специальный раздел «Экспрессионисты – Бурлюк, Шагал, Лапшин, Лебедев». Но это не стало основанием для оформления живописного экспрессионизма в России как группы.
Столь же разрозненно элементы экспрессионизма возникали в музыке, прежде всего, на страницах футуристических изданий (ноты Н.Рославца в сборнике “Весеннее контрагентство муз”, посвященном памяти А.Н.Скрябина, манифест А.Лурье в сборнике “Стрелец”(1915). В кругах авангардистов был известен перевод Кандинского “Параллелей в октавах и квинтах” А.Шёнберга, включенный в каталог Второго салона Издебского(1911). Однако с идеями «венской школы» сближаются лишь опыты раннего Н.Мясковского и А.Ребикова. Особый мир полифонии создал И.Стравинский. Музыка балетов “Весна священная” (1913, декорации Н.Рериха), «Петрушка», “Жар-птица” предоставляла возможность соединения архаических форм обрядовых языческих действ с новейшими приемами симфонизма и пластики. Как эксперимент “музыкально-социально-гигиенический” рассматривал А.Авраамов свою “универсальную систему тонов” и замысел “Симфонии гудков”(1919) в исполнении эскадры Волжской флотилии. Другим примером обработки актуального материала стало музыкальное сочинение А.Мосолова «Четыре газетных объявления»(1926), сопоставимое с вокальным циклом Х.Эйслера «Газетные вырезки». В 1922 г. А.Туфанов, исследуя функции звуков речи, установил 20 законов «звуковых комплексов», которые вошли в книгу “Фоническая музыка в Государстве Времени” (опубликована под заглавием “К зауми”). Но в конце 20-х гг. «непосредственное духовное вдохновение» уступает место «музыке машин» («Стальной скок» С.Прокофьева, «Сталь» А.Мосолова, «Болт» Д.Шостаковича).
Новые средства образности использовала и русская кинематография. В фильмах “Драма у телефона”(1914), “Пляска смерти”(1916), “Сатана ликующий”(1917) Я.Протазанов применил монтажный принцип, использовал условность декораций, крупный план, “жест взгляда” в русле немецкого экспрессионистского кино. В его лучших работах “Пиковая дама” и “Отец Сергий” (1918) выявилась особая выразительность исполнителя главных ролей Ивана Мозжухина, который считал, что кинематограф “построен на внутренней экспрессии, на паузе, на волнующих намеках и психологических недомолвках”. Передача внутренних экстатических состояний через мимику и пластику, “ритмичное и сконцентрированное творчество” достигли у Мозжухина огромной силы, подготовив русского зрителя к восприятию игры К. Фейдта. Русский актер Г. Хмара исполнял роль Раскольникова в одноименном фильме режиссера Р. Вине(1923). Фильм стал одним из важнейших произведений экспрессионистического кинематографа во многом также благодаря работе художника А. Андреева, создавшего стилистически цельный образ условного пространства. Используя эффекты свето-теневой деформации предметов, заостренность силуэтов, Андреев ставил декорации из произвольно пересекающихся плоскостей.
В годы мировой войны и революционных преобразований отдельные проявления экспрессионизма концентрировались и возникали новые как последствия “революционно-духовной волны” (А.Белый). Как и в Германии, “поэты снова превращаются из созерцателей в исповедников”. Хлебников написал сверхповесть «Смерть в мышеловке», Маяковский в поэме «Война и мир» восклицал: «Слышите!/Каждый,/ненужный даже,/должен жить». В серии литографий Н.Гончаровой “Мистические образы войны”(1915), в альбоме линогравюр О.Розановой «Война»(1916) с текстами А.Крученых запечатлелся взгляд русского человека на мировую бойню.
Примером переосмысления символизма в духе мировой мистерии, которая “совершается нами - в нас”, явилась поэма Андрея Белого “Христос Воскрес”(1918). Мозаичность, орнаментальность повествования, ”анархия” изобразительных приемов, отразившая хаос жизни, определяли своеобразие повести “Голый год”(1922) Бориса Пильняка, которую сопоставляли с толлеровским “Massemensch”. В его рассказе “Санкт-Петербурх” видели “близость к немецким импрессионистам”(Летопись Дома литераторов,1921,№3). Участники объединения “Серапионовы братья” считали,что произведение “должно быть органичным, реальным, жить своей особой жизнью, не быть копией с натуры, а жить наравне с природой”(Л.Лунц). В произведениях К.Федина, Вс.Иванова, В.Каверина отмечалось влияние новелл Мейринка, в которых реальность переплетается с мистикой: «В Мейринке стиль Гофмана преломился через мир, войну и революцию»(В.Мелик-Хасрабов,1923). Экспрессионизм в их представлении – это «Гофман, прошедший через Версальский договор».
Активизация радикальных тенденций после 1917 г. привела к попытке соединить идеи социальной революции с творческим экспериментом: «В государственную систему управления вошли носители живой художественной культуры России, привыкшие обычно противопоставлять себя власти и вошли как власть»(А.Эфрос). В 1918-1919 гг. с Наркомпросом сотрудничали Маяковский, Кандинский, Малевич, Татлин, Розанова, Лурье, Шагал и др. В «Приказе по армии искусств»(1918) Маяковский требовал: «Товарищи! На баррикады!- баррикады сердец и душ». На страницах “Газеты футуристов” и “Искусство коммуны” разрабатывались понятия “Революции Духа”, “Интернационала искусств”. Были направлены обращения к германским художникам с призывом к «взаимному общению и обмену творческой мыслью в области последних художественных достижений». Ответные письма поступили от группы радикальных художников “West-Ost”, от баденской «Организации изобразительных искусств», от берлинской “November-Gruppe”. В манифесте “Ноябрьской группы”(1920) говорилось: ”Будущее искусства и серьезность настоящего часа заставляет нас - революционеров Духа (экспрессионистов, кубистов, футуристов) объединиться.”
Характерными свойствами русского экспрессионизма в связи с этим можно считать духовное странничество, которое часто выражалось в невозможности остановиться и реализоваться в каком-то одном проекте. «Экспрессионизмом больны многие мои современники,- писал теоретик левого искусства Н. Пунин,- одни – бесспорно: Кандинский, Шагал, Филонов; теперь – Тышлер и Бабель; Пастернак, написавший «Детство Люверс» – кусок жизни, равный прозе Лермонтова, всегда томился в горячке экспрессионизма; Мандельштам, когда он напрасно проходил свой «пастернаковский период», экспрессионистичен Шкловский в традициях Розанова, ранний Маяковский – поэт, Мейерхольд, Эренбург, теперь еще Олеша; чем дальше, тем больше, многое в современной живописи, той, которая съедена литературой, налилось и набухло экспрессионистической кровью»(Н.Пунин. Квартира №5//Панорама искусств-12.М.,1989.С.177).
Экспрессионисты
Если поэтика экспрессионизма проявлялась в творчестве сложившихся писателей как дополнительный элемент, обусловленный общественно-культурной ситуацией и личным опытом, то для молодых поэтов, вступавших в литературу среди “низвергающегося хаоса” и “конвульсий формирующегося народного менталитета”, она казалась универсальным способом самовыражения и самоутверждения. Семнадцатилетний поэт Ипполит Соколов воспользовался не входившим до того в обиход названием “экспрессионизм” и о приоритете на эту литературную нишу заявил так: ”Экспрессионизм родился в голове И.Соколова, таинство крещения получил 11 июля 1919 года на эстраде Всероссийского Союза поэтов”. До этого момента И.Соколов считал себя эвфуистом, т.е. сторонником вычурной поэзии. На самом деле его опыты зависели от участников “Мезонина поэзии” (В.Шершеневича, К.Большакова), которых И.Соколов сближал с английским течением “имажизма”(группу имажинистов он, напротив, считал “псевдоимажистами”). В этом качестве он успел издать Полное собрание сочинений, которое состояло из 12 страниц малого формата с буквенной пагинацией от А до М и подзаголовком: ”Издание не посмертное. Т.1. Не стихи”.
Объявляя о создании собственной литературной группы, И.Соколов сформулировал ее задачи в “Хартии экспрессиониста” (в сб.”Бунт экспрессиониста. Издание, конечно, автора”), где определил свой экспрессионизм как синтез всего футуризма:”Только мы, экспрессионисты, сможем осуществить то, что не смогли осуществить футуристы: динамику нашего восприятия и динамику нашего мышления”. Для достижения этой цели требовалось “вытравить все те принципы старого стихосложения, которые считались незыблемыми от Гомера до Маяковского”, перейти к новой системе, построенной по “строго математическим схемам 40-нотного ультрахроматического звукоряда и-е-а-о-у”, создать полистрофику и высшую эвфонию (благозвучие). Программный лозунг был рассчитан на эпатаж: «Экспрессионизм, черт возьми, будет по своему историческому значению не меньше, чем символизм или футуризм».
Очевидно, что выполнение столь важной миссии требовало философской подготовки. В книге “Бедекер по экспрессионизму” Соколов признавался: ”Моя первоначальная теоретическая схема экспрессионизма как исключительно синтеза всех достижений четырех течений русского футуризма, давно оказалась для нас узкой. Экспрессионизм как течение под знаком максимума экспрессии не будет одним синтетизмом, а будет еще и европеизмом и трансцендентизмом”. Его соратник, поэт и художник Борис Земенков, также утверждал: ”Мы вышли из пещеры логически возможного. Только формы духовные нам нужны...” Наметившийся поворот от вопросов обновления стиха к мировоззренческим проблемам, к мистическому истолкованию реальности связан в известной мере с работой теоретика немецкого экспрессионизма Казимира Эдшмида “Экспрессионизм в литературе и новая поэзия”, о русском издании которой в переводе Теодора Левита сообщалось в кн.”Бунт экспрессиониста”(не сост.).
Ипполит Соколов подчеркивал, что русские экспрессионисты начинали выступать в полной изоляции от “заграничного экспрессионизма”: ”Мы узнали о возникновении и успехе экспрессионизма в Германии, Австрии, Чехии, Латвии и Финляндии” только весной 1920 года. Знакомство с одноименными группами не разочаровало Ипполита Соколова в состоятельности собственной программы, напротив, прибавило уверенности в том, что его группа может стать частью “всеевропейского течения”. Он задумал работу “О принципах построения ...” Но европеизм его порой сводился к элементарному: ”...через 10-15 лет все Бальмонты и Брюсовы вымрут, как вымерли все хандрозавры. Они вымрут - и, рассуждая совершенно объективно, кто-то должен их сменить по самым простым законам биологии”.
Отличительное свойство экспрессионизма - повышенную выразительность - И.Соколов распространял на всех мировых гениев. Таким образом, в основе его “трансцендентизма-ноуменализма”, как сообщалось в листовке “Ренессанс ХХ века”, оказалось учение Анри Бергсона, “алогизм китайских таоистов, мудрость древнеиндусских вед, внутренний опыт оккультистов, Блаватской, антропософов Р.Штайнера, А.Белого, мистицизм Соловьева”. Это миропонимание И.Соколов называл не теоретическим, не этическим, а психофизиологическим, инстинктивным, исходящим из тех же “законов биологии”, что и европеизм.
В числе единомышленников назывались имена Эйнштейна, Лосского, Розанова, Маяковского, Хлебникова, а также художников, музыкантов, режиссеров - предтеч экспрессионизма. О столь длинной родословной иронически отозвался Ю.Тынянов в “Записках о западной литературе”(1921):”...оказалось слишком много родственников. Во всяком случае в рождении его замешаны “славянские влияния”: Толстой, Гоголь, Достоевский и В.В.Кандинский...Список хорош, и родня почтенная, но не слишком ли много?(отчасти походит на библиотечный каталог)...”
Несмотря на явный эклектизм декларации Ипполита Соколова привлекли внимание молодых писателей, позволили объединиться вокруг инициатора их и представлять экспрессионизм на вечерах “чистки поэтов”, на “смотрах всех поэтических групп”, и, что особенно важно, среди двухсот издательств, зарегистрированных в 1922 году в Москве. Действительно, небольшие, малотиражные книжки выходили в эфемерных издательствах под марками “Сад Академа”, “Ренессанс ХХ века”, “Орданс”(Сандро), “Фаршированные манжеты.-Холодно.-ХХ век”, “0,21 ХХ века РСФСР” и др.
Начиная с весны 1920 года в группу экспрессионистов помимо Ипполита Соколова и Бориса Земенкова входили Гурий Сидоров-Окский, Сергей Спасский, Борис Лапин, Евгений Габрилович. Первой совместной акцией было “Воззвание экспрессионистов о созыве Первого Всероссийского конгресса поэтов” (подписано Земенковым, Сидоровым, Соколовым), затем выступления на диспутах и в печати.
Однако литературная деятельность группы занимала довольно скромное место. И.Соколов вполне выразился в своих манифестах: ”Теперь, когда мы, экспрессионисты, швыряем свои лозунги, как ручные гранаты, развертывается богатое и интересное движение, какое не знала русская поэзия со времен раннего футуризма”. При этом его стихи, призванные демонстрировать новое качество, обнаруживали прямую зависимость от В.Шершеневича.
По преимуществу в русле имажинистской образности оставался Борис Земенков. В книге “Стеарин с проседью: Военные стихи экспрессиониста”(1920) он стремился через ассоциативность, сложную метафору передать ужас войны (“волчьи ягоды крови на кишках этих строк”, “гранат картофель всеялся в борозды”, саквояж могилы, портянки прожектора). Поэта занимали “экзотические” рифмы: траура/из Тауэра, рельс/Уэльс, парашют/Брут и т.п. “Ведун русского экспрессионизма”, он находил ценность произведения в чистоте имманентной формы: “Единственная экспрессионистическая вещь рук человеческих - танк, ибо форма его и окраска суть ферменты страха. Возможно, что борьба в грядущем будет производиться зрительным и звуковым образом” (Б.Земенков. Корыто умозаключений. Экспрессионизм в живописи. М.,1920.С.3).
Своеобразный вариант экспрессионистской образности дал Гурий Сидоров-Окский в книгах “Расколотое солнце”, ”Ходули”.
В целом, эти поэты были экспрессионистами с “имажинистской доминантой”. В полемических выступлениях они пытались дистанцироваться от Шершеневича, от имажинистов, на практике Борис Земенков объединялся с Шершеневичем (сохраняя за собой определение “экспрессионист”) в книге “От мамы на пять минут”(1920), Гурий Сидоров печатал “Ялик” в издательстве “Имажинисты”, а Ипполит Соколов назвал последний из своих теоретических “Имажистика”(1922), проследив в нем с помощью статистического анализа эволюцию образной системы русского стиха от Кантемира до Шершеневича.
И.Соколов, заявлявший о рождении экспрессионизма в его голове, в конце 1922 года пришел к выводу о том, что “экспрессионизм везде: в мышлении, искусстве, технике, быте, в походке, в жестикуляции, в манере говорить, в обстрижке ногтей”. Но воспользоваться этим открытием не удалось.
Группа экспрессионистов была немногочисленной, непостоянной по составу и распалась к 1923 году, не осуществив своей программы.
Московский Парнас
Кроме обозначенной как “имажинистская”, в рамках группы экспрессионистов существовала иная, ”центрифугистская доминанта”, представленная произведениями Сергея Спасского, Бориса Лапина и Евгения Габриловича. Вместе с Ипполитом Соколовым они составили наиболее интересный сборник произведений, получивший обобщающее название “Экспрессионисты”(1921). Сдержанная, пассеистичная манера Спасского сохраняла близость поэтике раннего Пастернака: ”Сны - космы сумеречных грив/И ждать. Душа закоченела...”, “Какого марева рука тебе виски морозом трогала...” Однако открытием сборника стали первые опыты Б.Лапина и Е.Габриловича. Единственное стихотворение шестнадцатилетнего Б.Лапина “Пальмира привлекало богатым интонационным рисунком, сгущенной образностью. Внутренняя обособленность от литературных канонов проявилась в рассказе Е.Габриловича “ААТ”. Это некое “синтетическое действие” с элементами потока сознания, монтаж фрагментов текста, рассеченных пояснениями-титрами: “Сдвиг”, “Краткое отходящее”, “Заставка”. Пограничный между прозой, стихом и коллажем, текст стал дебютом будущего мастера кинопрозы.
В 1921 году в поисках самоопределения Б.Лапин, студент Высших литературно-художественных курсов им.В.Я.Брюсова, вошел в объединение “Молодая Центрифуга”, состоявшее из Теодора Левита, Мих.Тэ (М.И.Ильина) и Владимира Шишова. Однако вскоре, неудовлетворенный ученическим характером собраний, он вместе с Е.Габриловичем организует собственную группу “Московский Парнас” и одноименное издательство.
В предисловии к вышедшему в мае 1922 года сборнику ”Молниянин” Лапин писал: “Лирики глас раздается лишь с тех вершин, где сияют пленительные и нетленные имена наших дядюшек: Асеева, Аксенова, Bechera, Боброва, Ehrensteina, Пастернака и Хлебникова. Коими ныне почти исчерпывается светлый мировой экспрессионизм”. С еще большей определенностью соединялась поэзия “Центрифуги” и немецкого экспрессионизма в альманахе “Московский Парнас-2» (о 1-м выпуске сведений нет). В альманахе(1922) печатались выполненные Б.Лапиным (частью под псевдонимом “С.Пнин”) переводы стихов “величайшего поэта раннего экспрессионизма” Альфреда Лихтенштейна, оказавших “сильное влияние на развитие современного немецкого экспрессионизма” Георга Гейма, Яна ван Годдиса.
На страницах альманаха можно было познакомиться с образцом прозы немецких экспрессионистов (“Похороны Альфреда Лихтенштейна” Виланда Герцфельде) и рассказом Бориса Лапина и Евгения Габриловича “Крокус Прим”, в котором схожие приемы - контраст и фрагментарность - применены вполне профессионально.
Лапин отстаивал искусство немецких романтиков в полемике со сторонниками утилитаризма, “комфута и конструкции”. В его выступлениях нередко бывали мистификации, так, в сб. “Московский Парнас” вошли “переводы” из несуществующего поэта-дадаиста Теофиля Мюллера. На одном из вечеров “чистки русской поэзии”, которые проводил Маяковский, Лапин вышел на эстраду Политехнического музея и прочел стихотворение. Маяковский сказал, что таких поэтов надо гнать из литературы. Тогда Лапин ответил, что это произведение Вячеслава Иванова из книги “Борозды и межи”. Это заметно смутило Маяковского, но позже выяснилось, что автором все же был Борис Лапин.
Сохраняя имя экспрессиониста и на страницах “Второго сборника стихов” Союза поэтов, он выступал против другой ветви футуризма, эволюционировавшей в область идеологии и политики, создававшей псевдопартийную организацию “коммунистов-футуристов” (комфут) и производственное искусство. Один из теоретиков этого направления Борис Арватов в статье “Экспрессионизм как социальное явление” высказывался против субъективности и общественной бесполезности этого, по его убеждению, буржуазного искусства. Б.Лапин, предвидя обвинения в нефутуристичности и, по-видимому, отвечая Арватову и “местным эстетам из брик-а-брака”, иронично отмечал в предисловии к своему сборнику “1922-я книга стихов”: ”Жизнь в поэзии, завещанная нам Отцами Мира через Жуковского и Новалиса, выродилась в фокусничество и актерство. Трудноплюйство достигло высокой степени экспрессии”. Всему этому он противопоставил свой символ веры: ”О отцы мои в искусстве/Тик, Брентано, Эйхендорф...”
Таким образом, Борис Лапин стал наиболее талантливым и последовательным выразителем мировосприятия и стиля московских экспрессионистов. Парадоксален был их путь - от выбора самоназвания, лишь отчасти соотносившегося с известным культурным феноменом, к серьезному постижению его эстетики на фоне глубокой романтической традиции и пристального внимания к немецкому экспрессионизму. Иначе говоря, они эволюционировали от желания обособиться, занять свою нишу в литературной борьбе - к обретению литературных “отцов” и “дядюшек”, от стихотворческих задач - к пониманию экспрессионизма как “выражения эпохи”.
После ликвидации издательства “Московский Парнас” в начале 1923 года деятельность группы затихает. В последний раз ее название появляется на афише поэтического вечера Всероссийского союза поэтов “Поэзия наших дней” в Политехническом музее 29 ноября 1925 года (Б.Лапин, Н.Церукавский, В.Монина).
Фуисты
Фуисты составляли небольшую, слабо организованную группу, которая ставила перед собой задачу обогатить “исчерпанную стихию слова вчерашнего и слова завтрашнего” экзотическими образами и ритмами: ”И не к, а от исчерпанных горизонтов Азии с испепеленными ресницами и выпитыми губами”. Начиная с 1921 года фуистами себя называли Борис Перелешин, Николай Тихомиров, Борис Несмелов, Николай Лепок, Александр Ракитников.
Наиболее последовательным из них был Борис Перелешин, первая книга с участием которого, а также Тихомирова и Несмелова, “Четвертый год”, появилась в 1921 году в Томске и вряд ли была замечена критикой или читателями при тираже 550 экземпляров. Однако помешенный здесь отрывок из поэмы Б.Перелешина “Очарование Зимы”, в котором звучными шестистишиями повествуется о дне Февральской революции, говорил о таланте поэта “бронзового поколенья”. В стихотворении “Под молотом” возникает образ “поэта-рабочего”, но не по-маяковски оптимистичного, а “поэта греха”, терзаемого “злой тревогой”: “...вечно будешь железо мысли/рвать и ковать станком стиха”.
Дальнейшее ученичество Б.Перелешина у имажинистов и поэтов “Центрифуги” отразилось в стихах из московского сборника “А”(1921), в котором участвовали также А. Ракитников и И.Соколов. Сгущение физиологических мотивов(“из живота стрелка по телу чертит”, “баррикада ребер”,”болото кишечника”) у Перелешина сближается с “Убиением плоти” А.Ракитникова и “Апокалиптическим чудовищем” И.Соколова.
Выступление на столичной арене в союзе с экспрессионистами во многом определило дальнейшую эволюции фуистов. “Пусть не сетуют, что в холодной Московии, вместо всеобщей равной и явной мозговой засухи, мы - оказывается - всерьез и надолго утверждаем поступь мозгового ражжижа”,- заявлял Б.Перелешин в предисловии к своей книге “Бельма Салара”( в названии - образ пенной реки Салар). Следует отметить, что книги “Мозговой ражжиж”(1922) и “Диалектика сегодня”(1923) написали Б.Перелешин и Н.Лепок, “единственные несущие на своих лицах/разлив нового мира./Два мудреца. Какой простор!/Ровно год с зажатым ртом./А теперь номер первый удар по обжорному фронту”.
В условиях сосуществования десятков поэтических групп фуисты сближались с экспрессионистами и ничевоками, вступая в полемику с “отплывающими кораблями символизма”, с “Опоязом или обществом мозговой засухи”. В предисловии к сб.”Диалектика сегодня” Борис Перелешин писал о том, что НЭП “съел поэтов”:”Ни зги на российских эстрадах, продавленных/копытами всевозможных имажинистов./Каменная пустыня достиховья.”
Другой фуист, Борис Несмелов, считал трагедией современного поэта то, что ”его утопию в редакции “Известий” не отличат от репортерского отчета”, от ”рурской оккупации” и “унылого фона всеобщей электрификации”, ибо ”в борьбе с пространством инженерами случайно задавлен щенок времени”.
Подобно экспрессионистам Несмелов хотел противопоставить рациональности “карманников поэзии” во что бы то ни стало рассказ о себе. Фантазия питает его парадоксальную образность, начиная от заглавия книги - “Родить мужчинам”(1923), до отдельных тропов поэмы, связанных с известным стихотворением Давида Бурлюка “Мне нравится беременный мужчина...” Тогда же “выдумщик Бурлюк”, находясь в Америке, предпринимал попытки издать в Берлине книжку своих стихов “Беременный мужчина”(не состоялось). Деятельность фуистов также прекратилась после 1923 года.
Эмоционалисты
Помимо московских групп с экспрессионизмом была связана петроградская группа эмоционалистов, лидером которой был Михаил Кузмин. Возникшая в конце 1921 года, она продолжала появляться на афишах до 1925 года. В ее состав входили писатели Константин Вагинов, Анна Радлова, Адриан Пиотровский, Юрий Юркун, Борис Папаригопуло, драматург и режиссер Сергей Радлов, художник Владимир Дмитриев. Группа выпустила три номера альманаха “Абраксас”, название которого происходило от гностического символа единства мирового пространства, времени и духа (на геммах гностиков с надписью Абраксас изображалось существо с человеческим телом, петушиной головой и змеевидными ногами. В одной руке у него хвостатая плеть как символ власти, в другой - круг и в нем ветка в виде двойного креста, символа мудрости. Извивающиеся змеи олицетворяли дух и слово, петушиная голова - провидение, а семь греческих букв имени составляли символическое число 365).
Сложная ассоциативная связь творчества эмоционалистов с определенными философскими и художественными традициями составляла их подлинное своеобразие. В рецензии на альманах А.Пиотровский выделял “александрийскую гностическую мудрость Кузмина, более элементарную, более национальную окраску ее у Радловой, немножко от Достоевского идущий полипсихизм у Юркуна, у Вагинова, совсем еще молодого, страшную взволнованность лирической души”.
Отмечая в 1-м выпуске альманаха, что “кофейный период” литературы миновал и все течения - имажинисты, экспрессионисты, фуисты, ничевоки - умерли, эмоционалисты представляли образцы своего понимания нового искусства. Однако, если московские экспрессионисты начинали с теоретических заявлений, то программный документ петроградской группы - “Декларация эмоционализма” появился, напротив, в последнем выпуске альманаха. Декларацию помимо автора, М.Кузмина, подписали А. и С.Радловы, Ю.Юркун, провозгласившие: “Сущность искусства - производить единственное, неповторимое эмоциональное действие через передачу в единственно неповторимой форме единственно неповторимого эмоционального восприятия”.
Эмоционалисты ценили такие черты экспрессионистской поэтики, как “выход из общих законов для неповторимой экзальтации, экстаза”; феноменальность человеческого, приоритет эмоционального способа познания мира, когда художник имеет дело с “неповторимыми эмоциями, минутой, случаем, человеком”. Эмоционалист, таким образом, отвергает каноны, признает только “феноменальность и исключительность”, лишь “интуитивный безумный разум” служит путеводителем художественной мысли, а логика допускается в “эмоционально измененном виде”.
Заслуживает внимания тот факт, что некоторые положения Декларации перекликаются с высказываниями Ипполита Соколова. Например, “движение”, сопряженное с творчеством, в программе эмоционалистов и “динамика восприятия и мышления” у экспрессионистов. Сближение биологических и художественных законов, отмеченное у И.Соколова, проступает и в строках М.Кузмина:”Изжив и переварив все чувства, мысли старого Запада (Франции, Англии, Италии) страдающего духовным запором (ибо эволюции духовной пищи во всем подобны пище телесной и нельзя приниматься за новое, не освободившись от бесполезных отбросов)”. Любопытно, что тремя годами ранее И.Соколов шокировал публику стихами:”Ах, зачем в парк Тюльери выходило/Через анальные отверстия домов/Твердое, как после запора, кало людей?”
В основе подобных совпадений, вероятно, не предумышленных, поскольку группы находились в оппозиции друг к другу, была общая для них ориентация на экспрессионизм. В той же декларации Кузмин указывал на тождество эмоционализма и немецкого экспрессионизма: ”Эмоционализм - струя которого ширится по России, Германии и Америке, стремится к распознаванию законов элементарнейшего...”
Высокая оценка немецкого экспрессионизма содержалась в статьях М.Кузмина “Пафос экспрессионизма”, “Эмоциональность как основной элемент искусства”, “Стружки”. По убеждению М.Кузмина экспрессионизм привлекал протестом против “внешних летучих впечатлений импрессионизма, против духовного тупика и застоя довоенной и военной Европы, против духовного тупика точных наук, против рационалистического фетишизма, против механизации жизни во имя человека”.
Именно в открытой эмоциональности Кузмин увидел способ противостоять обезличиванию человека, превращению его в “колесико и винтик” тоталитарного государства. Вот почему созерцательности акмеизма, собственным теориям “кларизма” (прекрасной ясности) он предпочел в новых условиях экстатический порыв и крайнюю субъективность. ”Как прокричать во все глухие уши: это человек - не машина, не цифра, не двуножка, а человек? Экспрессионисты,- пояснял Кузмин,- в подобных случаях прибегают к самым резким, низменным, отвратительным доказательствам. Смотрите: у меня дрожит веко, я заикаюсь, я страдаю дурной болезнью, несварением желудка, припадками лихорадки, лицо мое перекошено - я человек, поймите,- я человек”.
Но обращаясь к экспрессионистской эстетике, М.Кузмин прежде всего опирается на собственную практику, отразившуюся в книгам “Параболы: Стихотворения 1921-1922” и “Форель разбивает лед: Стихи 1925-1928”.
- Ты дышишь? Ты живешь? Не призрак ты?/ - Я - первенец зеленой пустоты./ - Я слышу сердца стук, теплеет кровь.../ - Не умерли, кого зовет любовь...”
Эмоционалисты воспринимали стих как “тело живое, сердцами сотворенное”(К.Вагинов), вводили в текст элементы дневника, переписки, достигая “новых сдвигов духа”, как характеризовал Кузмин прозу Юрия Юркуна. Частное, дневниковое в этом случае переводится в статус феноменального, происходит болезненный процесс защиты живого: ”Страшно жить мертвецу среди живых, страшно быть человеком страны умершей”. Типологически эти мотивы сближались с пафосом итоговой книги немецкого экспрессионизма “Сумерки человечества”, в названиях отдельных глав которой выражен тот же круг идей: ”Крушение и крик”, “Пробуждение сердца”, “Призыв и возмущение”, “Люби человека”.
Характерное прежде всего для Кузмина одномоментное развертывание биографического и культурного планов отразилось в третьей книге Анны Радловой “Крылатый гость”(1922). Эмоциональное напряжение возникало в тех стихах, где приметы голодной петроградской жизни соседствовали с романтическими аллегориями:”Гость крылатый, ты ли, ты ли? Ведь сказано - любовь изгоняет страх. Сладкий ужас залил мне грудь и плечи, Песню нудишь, а из губ запекшийся рвется крик…»
В рассказах Ю.Юркуна “Игра и игрок”, “Петрушка”, “День в балетном училище”, которые печатались в “Абраксасе”, находили “дух Великого Немца - Гофмана”(Кузмин) и “литературный кубизм”(Милашевский), “уклон к бреду”(Тиняков).
Одним из близких себе творцов эмоционалисты считали Велемира Хлебникова. В первом номере альманаха “Абраксас” в октябре 1922 года было напечатано письмо Хлебникова Кузмину - своеобразный автонекролог: ”Я сижу, кусаю губы и не знаю, что мне делать: разделить ли поровну свои богатства между уксусной эссенцией и бумагой для последнего письма, или же послать кому-то грозный вызов, грозное объявление войны на жизнь и смерть. Воображаю, что это кусание ногтей продолжится и за гробом, если я только притворюсь мертвым, а мне поверят!..” Парадоксально, но эти черты, свойственные и экспрессионистской поэтике, выделили эмоционалисты в своей декларации.
- Экспрессионизм и русская культура 1920-х гг.
Одним из связующих звеньев между эмоционализмом и экспрессионизмом стал немецкий кинематограф (в прокате было свыше 500 лент). С другой стороны, в Советской России руководитель группы киноков Дзига Вертов, отрекаясь от мистического игрового кино, разрабатывал эстетику “голой правды”, “жизни врасплох”. В манифесте (1922) он иронизировал над теми, кто “жадно подхватывает объедки немецкого стола”: “Видно мне и каждым детским глазенкам видно: вываливаются внутренности, кишки переживаний из живота кинематографии, вспоротого рифом революции” (Леф, 1923, №3. С.135).
Рядом с документальным вариантом развивался эксцентрический - соединение элементов кабаре, мьюзик-холла, джаз-банда (В.Парнах), кино (мастерская ФЭКС) и, по определению С.М.Эйзенштейна, “бытовой экспрессионизм” (А.М.Роом). Показательно, что Эйзенштейн, начиная работу в кино, перемонтировал в мастерской Э.И.Шуб двухсерийный фильм Ф.Ланга “Доктор Мабузе-игрок” для советского экрана в односерийный - “Позолоченная гниль”. Этот опыт наряду с театральным дал импульс к созданию теории “монтажа аттракционов”, т.е. соединения и выделения любого элемента зрелища, способного подвергнуть зрителя сильному “чувственному или психологическому воздействию” по аналогии с “изобразительной заготовкой” Гросса (Леф,1923,№3.С.71). Уже в кинофильме “Стачка”(1924) героем стала масса, а содержанием - выражение исступленного состояния людей через монтаж контрастных эпизодов. Эмоциональный образ целого, достигнутый путем свободного монтажа, воплотился в ленте “Броненосец “Потемкин”(1925). Эйзенштейн использовал отдельные элементы сюжета не в их повествовательной функции, но для построения кинометафор и ритмической организации произведения.
Благодаря уникальной “партитуре чувств” режиссер достиг многократной концентрации эмоций в сценах готовящегося расстрела матросов, их стихийного восстания, в драме на одесской лестнице. Здесь словно в экспрессионистской живописи сфокусированы шокирующие детали: разодранные в крике рты, безумные глаза, растоптанные тела. Прием заполнения кадра темной (броненосец) или светлой (туман) массой, а также раскраска красного флага в финале (ср. позже цветовой эпизод вакханалии опричников в “Иване Грозном”) непосредственно соприкасались с опытом немецкого экспрессионизма ( вирированный “Кабинет доктора Калигари” Р.Вине). Успех фильма в Германии определялся созвучием не только его революционного пафоса, отточенного мастерства но и стилистики ( единственный полный негатив был куплен Германией в 1926 году).
Чрезвычайно широко в послереволюционной России был воспринят опыт драматургии немецкого экспрессионизма. В этом жанре выступали помимо Кузмина (“Прогулки Гуля”) С.Э.Радлов (“Убийство Арчи Брейтона”) и А.Пиотровский (“Падение Елены Лей”, “Гибель пяти”). Все они участвовали в постановке пьесы Эрнста Толлера “Эуген-несчастный” в 1923 году (Пиотровский - переводчик, Радлов - режиссер, Кузмин - композитор). Полемика вокруг спектакля обнажила различные мнения: от упреков в “леонидандреевщине” до похвал “неистовым экспрессионистам”.
Другая пьеса Э.Толлера “Человек-масса” в переводе О.Мандельштама шла в московском театре Революции. При этом Толлер, посетивший в 1926 году эти спектакли, счел их излишне эмоциональными в сравнении с немецкими постановками. В жанре политического обозрения особенным успехом пользовались пьесы Сергея Третьякова “Противогазы” в постановке С.Эйзенштейна, “Земля дыбом” и “Рычи, Китай!” в Театре В.Э.Мейерхольда.
О создании лаборатории театра экспрессионизма объявлял И.Соколов, который предполагал соединить слово, жестикуляцию и танец в некое агитварьете. Отказ от жизнеподобия в пользу “театра представлений” был отличительной особенностью студии Е.Б.Вахтангова. “Исполнитель должен быть преображен через внутреннее побуждение”,- считал режиссер, предлагая Михаилу Чехову, гениально выразившему психическую неуравновешенность и внутреннюю полифоничность, подчеркнуто экспрессионистский грим в роли Эрика Х1У в одноименной пьесе Стриндберга(1921). В 1930 году впервые в СССР на сцене Камерного театра А.Я.Таирова, которому был присущ, по словам К.Эдшмида, стиль нежного экспрессионизма, появилась пьеса Б.Брехта “Трехгрошовая опера” (в переводе В.Г.Шершеневича под названием “Опера нищих”).
В 20-е годы контакты между представителями русского и немецкого экспрессионизма, начавшиеся в довоенное время и прерванные в годы войны, были многообразны. Обращаясь с приветствием к художникам молодой Германии, эмоционалисты писали:”Знайте и вы, что в России созвучно вам бьются сердца, не отяжеленные спячкой минувшей цивилизации, и что вас приветствуют братья, которые вас любят и гордятся вами”(Жизнь искусства,1923,№11.С.2). В результате Германской художественной выставки в Москве (1924) стало очевидно, что экспрессионизму созвучно многое в практике объединений “Маковец”, “Живскульптарх”, “НОЖ”, позже - “ОСТ”, в школе Филонова (иллюстрации к финскому эпосу “Калевала”), в творчестве Малевича (“Крестьянский цикл”) и его учеников. К явлениям экспрессионистской поэтики относятся некоторые работы Д.Бурлюка, О.Розановой, Ю.Анненкова, Б.Королева, В.Лебедева, А.Древина, А.Пименова, П.Вильямса и др. На Первой русской художественной выставке в Берлине осенью 1922 года существовал специальный раздел: ”Экспрессионисты - Бурлюк, Шагал, Лапшин, Лебедев”. Но это не стало основанием для оформления живописного экспрессионизма как группы.
В Советской России было переведено свыше 200 стихотворений 40 поэтов-экспрессионистов, которые печатались в периодике и антологиях (В.Нейштадт. Чужая лира,1923; Молодая Германия, 1926; Поэзия революционного Запада,1930). Среди переводчиков были О.Мандельштам, Б.Пастернак, Н.Асеев. В экспрессионизме находили действенный протест против “духовного тупика и застоя довоенной и военной Европы, против тупика точных наук, против рационалистического фетишизма, против механизации жизни - во имя человека” (М.Кузмин. Пафос экспрессионизма// Театр,1923,№11.С.2).
В манифестах русских экспрессионистов, в творчестве близких этому направлению авторов отмечалась актуальность романтического искусства Новалиса, Гофмана, философских трудов Шопенгауэра и Ницше. С другой стороны, “славянские влияния” на становление немецкого экспрессионизма в лице Гоголя, Толстого, Достоевского находил Тынянов (Книжный угол.1921,№7.С.11). “Исключительное влияние Достоевского на молодую Германию” отмечал В.Жирмунский в предисловии к работе Оскара Вальцеля “Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии” (Пб.,1922.С.5). Как одну из составляющих “нового чувства жизни” наряду с шопенгауэровским пессимизмом и трагическим оптимизмом Ницше рассматривал традицию русской классики Ф.Гюбнер в статье “Экспрессионизм в Германии” (Экспрессионизм: Сборник статей. Пг.-М.,1923.С.55).
В то же время отношение к экспрессионизму было противоречивым. Нарком просвещения А.В.Луначарский пытался теснее связать его с революционной идеологией, что было не всегда плодотворно. В критике термин “экспрессионизм” стали применять к анализу творчества Л.Андреева, В.Маяковского. Абрам Эфрос включал “огненность экспрессионистических невнятиц” в понятие “левой классики”. Однако с ослаблением революционной ситуации в Германии экспрессионизм стал преимущественно расцениваться как “бунт буржуазии против самой себя” (Б.Арватов. Экспрессионизм как социальное явление//Книга и революция,1922,№6.С.28). Н.Бухарин видел в экспрессионизме “процесс превращения буржуазной интеллигенции в “людскую пыль”, в одиночек, сбитых с панталыку ходом громадных событий. Вот это состояние разброда выражается в росте индивидуализма и мистицизма...Это происходит в живописи, и в музыке, и в поэзии, и в скульптуре, словом - “по всему фронту искусства”(Кино. 1923,№1/5,С.15).
Русских экспрессионистов относили к разряду “попутчиков”, субъективизм, интуитивизм, иррационализм которых все более расходились с генеральной линией партийного воздействия на культуру. Оставаясь едва ли не последним оплотом индивидуализма, экспрессионисты не вписывались в социалистическое искусство, основанное на жизнеподобии и стилевой унификации. Эти обстоятельства вместе с изменением общественно-культурной ситуации в конце 20-х годов обусловили постепенный уход экспрессионизма в России с тех позиций, на которых он существовал в качестве одной из ведущих тенденций эпохи. Несмотря на идеологическое давление и преследования, в которых погибло немало участников экспрессионистского движения, его рецессия наблюдалась в 30-е годы в творчестве обэриутов (Д.Хармс, А.Введенский), в музыке Д.Шостаковича, Б.Мосолова, у С.Эйзенштейна (“Иван Грозный”), а также в литературе русского зарубежья (поэмы М.Цветаевой, “Распад атома” Г.Иванова).
Затем, после значительного перерыва, некоторые черты поэтики экспрессионизма, воспринятые через русский и зарубежный авангард возникли в неформальном искусстве “шестидесятников” (“суровый стиль” в живописи П.Никонова, В.Попкова, скульптура Э.Неизвестного, Г.Сидура, произведения Ю.Некрасова, театр Ю.Любимова). Элементы усвоенного экспрессионистского опыта проступают в поэзии и прозе постмодернистов (Т.Кибиров, В.Пелевин, В.Сорокин). Однако если в начале века экспрессионизм становился универсальным способом самовыражения среди “низвергающегося хаоса” и “конвульсии формирующегося народного менталитета”, то во второй его половине он проявлялся скорее как дополнительный элемент, как стилевая краска, цитата из прошлого. Искусство последних десятилетий, не желая служить господствующей идеологии, уходило в андеграунд, в диссидентство, в маргинальность и практически отказалось от мировоззрения.
Литература
Дрягин К.В. Экспрессионизм в России. Вятка,1928; Швецова Л.К. Творческие принципы и взгляды, близкие к экспрессионизму//Литературно-критические концепции в России конца Х1Х-начала ХХ века. М.,1975; Никольская Т.Л. К вопросу о русском экспрессионизме//Тыняновский сборник:Четвертые Тыняновские чтения. Рига,1990; Терехина В.Н. Бедекер по русскому экспрессионизму// Арион,1998, №1; Корецкая И.В. Из истории русского экспрессионизма//Известия РАН. Серия литературы и языка, 1998,т.57,№3; Терехина В.Н. Экспрессия или экспрессионизм? // Мир Высоцкого. Вып.З. Т.1. М.,1999.
Markov V. Expressionism in Russia|| California Slavic Studies. Berkeley.1971,vol.6, Flaker A. Futurismus, Expressionismus oder avangarde in der russischen Literatur|| Expressionismus im europaischen Zwischenfeld. Innsbruk.1978, Belentschikow V. Russland und die deutschen Expressionisten 1910-1925. T.1-2. Frankfurt,1993-1994, Die russische expressionistische Lyrik 1919-1922. Frankfurt,1996.