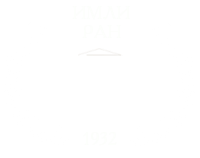РИМ В МИРЕ ГОГОЛЯ(Источник: Иностранная литература, 1984, №12, сс. 203 - 210)
Уходящий [1984] год, как известно" был объявлен по решению ООН годом Гоголя. В связи со 175-летием со дня рождения великого русского писателя в Институте мировой литературы имени А. М. Горького состоялась научная конференция, В основу предлагаемой читателю статьи советского литературоведа Р. Хлодовского лег прочитанный на ней доклад. — Встретили ли вы сейчас у Гоголя то, — "Рим"! Когда я перечитывал его, меня удивило, Валентин Катаев (Из интервью)
"Рим" — рассказ, жанрово определенный Гоголем как "отрывок",—читают действительно не так уж часто. Между тем для понимания Гоголя "Рим" существен. В нем подведены важные итога и намечена большая историческая идея. Имея в виду "отрывок" и называя его "превосходной статьей", П. В. Анненков вспоминал в очерке "Гоголь в Риме летом 1841 года": "Под воззрение свое на Рим Гоголь начинал подводить в эту эпоху и свои суждения вообще о предметах нравственного свойства, свой образ мыслей и, наконец, жизнь свою". Последние замечания особенно примечательны. Анненков вспоминал о Гоголе, уже прочитав "Рим" и воспринимая зрелого, классического Гоголя сквозь призму этого отрывка. Примечательно также и то, что" заговорив о "Риме", Анненков сразу сбивается на Рим — вечный город, на Рим-Град. В мире Гоголя этот Рим занимал огромное место. Едва оправившись от придавившего его известия о гибели Пушкина, Гоголь писал В. А. Жуковскому: "Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр —все это мне снилось. Я проснулся опять на родине и пожалел только, что поэтическая часть этого сна,—вы, да три-четыре оставивших вечную радость воспоминания в душе моей,— не перешли в действительность... О, Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни, и как печально было мое пробуждение! Что бы за жизнь моя была после этого в Петербурге; но как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все... Я весел? душа моя светла. Тружусь и спешу всеми силами совершить труд мой. Жизни, жизни! еще бы жизни! Я ничего еще не сделал..." В Риме было сделано много" Там написаны первый том "Мертвых душ" и "Шинель"; в Риме были коренным образом переработаны "Тарас Бульба" и "Портрет"; в Риме получили окончательную редакцию "Женитьба." и "Ревизор". Вскоре после того, как осенью 1841 года Гоголь приехал из Италии в Россию, Белинский написал об авторе "Мертвых душ": "Он совершенно отрешился от малороссийского элемента и стал русским национальным поэтом во всем пространстве этого слова". "Важное значение города Рима в жизни Гоголя,-— справедливо отметил Анненков,— еще не вполне исследовано". Слова о Риме-родине не были у Гоголя. случайной, сгоряча брошенной фразой. Он повторял их часто и настойчиво. В апреле 1838 года Гоголь признавался М, П. Балабиной: "...когда я увидел наконец во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет". Вечный, классический Рим как бы прародина русского, необычайно русского писателя Гоголя. Чем более русским ощущал себя Гоголь, тем ближе и роднее становился Рим. В 1840 году Гоголь написал сестре из Вены, прося ее передать привет А. С. Данилевскому и наказать, чтобы тот писал ему почаще, "А вечный адрес мой он знает: Roma". В устах Гоголя слово "вечный" звучало весомо. Вечный город воспринимался им как вечная родина. Национальному самосознанию Гоголя это никак не противоречило. "О России, - утверждал он, - я могу писать только в Риме. Только там она предстанет мне вся, во всей своей громаде". Понимаю, что эти гоголевские слова могут показаться несколько неожиданными. Читатель вправе спросить: почему, почему только в Риме? Попробую ответить. Хотя знаю, что это весьма непросто. Однако сделать вид, будто в мире Гоголя никакого Рима реально не существовало, было бы вряд ли правильно, да и просто неразумно. "Поглядите на меня в Риме, — приглашает всех нас, а отнюдь не одного лишь П. А. Плетнева великий русский писатель, — поглядите на меня в Риме, и вы много во мне поймете того, чему, может быть, многие дали название бессмысленной странности". Тема Рима или, точнее, Италии появилась в творчестве Гоголя рано. Первое опубликованное им произведение называлось "Италия" (март 1829 года). Это было стихотворение, написанное неуклюжими октавами и изобиловавшее банальностями заурядного романтизма. Его можно было бы счесть не слишком удачной пробой пера или даже случайной опиской. Возможно, так оно и было. Между тем тема Италии в творчестве Гоголя нарастала. В заключительных строках "Записок сумасшедшего" в голос измученного санитарами Поприщина властно ворвался глас великого писателя, который некоторое время спустя примется за поэму о мертвых душах: "Дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой — Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!" Это очень гоголевские строки. Они по-гоголевски пронзительные и по-гоголевски пророческие. Под таинственный звук струны в тумане Италия и русские избы в мире Гоголя соприкоснулись, и их казалось бы непредвиденное соприкосновение освятилось единственным для всякого русского человека словом "матушка". Это — факт, и для нашей литературы факт этот весьма знаменателен. В "Записках сумасшедшего", скажет Белинский, "такая бездна поэзии, такая философия...". При всей своей видимой неожиданности тема Италии и пока еще неназванного Рима зазвучала в заключительных аккордах гоголевских "Арабесок" вовсе не вдруг, а очень естественно, органично и, более того, вполне закономерно. Не стану анализировать гоголевские тексты первой половины 30-х годов, а просто сошлюсь на выводы одной, как мне кажется, яркой книга. "... Идея возвращения в детство, к истокам, в цельный мир прекрасного,— пишет Игорь Золотусский,— это идея всей прозы Гоголя этих лет и идея его статей, помещенных в "Арабесках". И всюду бесцветный север и гармонический (и яркий) юг противопоставляются друг другу. И в "Тарасе Бульбе" (косвенно), и в "Старосветских помещиках" (открыто), и в повестях "Арабесок"... На это есть намек в "Портрете", где укором Чарткову становится картина, привезенная из Италии. Об этом говорит и порыв Поприщина, переносящегося из Петербурга на юг Европы" [1]. Строго говоря, последняя фраза не вполне точна. Гоголевская тройка мчит Поприщина с юга на север, к русским избам, к давно уже поджидающей его матушке. На последней странице "Арабесок" напророчен последний путь Гоголя в Россию. Однако в главном Золотусский прав. В "Арабесках" содержались важные предсказания, которые действительно настойчиво указывали на юг, на Италию. Древние не зря называли поэтов "vates". Поэты — пророки, потому что, осознавая себя, они осознают судьбу воплотившегося в них слова. В первой трети XIX века судьба только что возникшей русской национальной поэзии вплелась в историческую судьбу русского народа. В истории человечества бывают моменты, когда подлинно реальным оказывается идеальное. В истории Европы — и в этом ее трагическое величие — такого рода моментов было не так уж мало. Гоголь понимал это как никто другой в современной ему России. В 1834 году он обнародовал в "Арабесках" "Несколько слов о Пушкине". Глава начиналась словами: "При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте". Сказано это было смело, оригинально, но в 1834 году никого уже, по-видимому, ошеломить не могло. В начале века национальное самосознание формировалось в России стремительно и революционно. Однако то, что двумя фразами дальше скажет о пока еще живом тридцатилетнем Пушкине двадцатилетний Гоголь, не может не поразить даже теперь. Гоголь пишет: "Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа; это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет". Говоря о Пушкине, Гоголь говорит не о гениальной, невиданной, всех изумлявшей поэзии, а о человеке, о гениальном русском человеке, свободном и гармоничном, о человеке-артисте, как его назовет потом Виссарион Белинский и независимо от него Александр Блок. Эта черта очень русская, национально, классически русская — и в то же время необычайно итальянская, национально итальянская, классически ренессансная. Именно в Италии эпохи Возрождения европейский человек впервые осознал себя самодовлеющей индивидуальностью, внутренне свободным человеком-творцом. Это стало одной из причин, почему на рубеже XV и XVI веков "в Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда уже больше не удавалось достигнуть" [2]. В наше время отрицание художественных абсолютов становится делом обычным. Вероятно, в этом есть своя закономерность. Но покорно принимать ее не хочется. Гоголь счел бы отрицание художественной абсолютности искусства Высокого Ренессанса еще большим абсурдом, нежели поприщинское "мартобря 86 числа". Идеальный человек представал перед ним вживе. Молодой Гоголь встречался с ним, разговаривал, жадно ловил его советы и подсказки и даже был с эстетическим абсолютом на дружеской ноге. Идеальным русским человеком для Гоголя был уникальный, но тем не менее вполне реальный, очень живой, веселый Александр Сергеевич, жену которого он как-то второпях назвал Надеждой Николаевной. "Несколько слов о Пушкине" многое проясняют во всем Гоголе, а значит, и то, почему в его мире такое большое место занял вечный" классический Рим. Пушкин и Италия, "златая Италия", в мире Гоголя постоянно соприкасаются. Ощущение русскости побуждало Гоголя тянуться к идеальному человеку. Поначалу казалось, что дорасти до Пушкина вполне возможно. Ободряло само присутствие Пушкина и его поддержка. В несколько загадочной записи "1834" Гоголь клялся своему, как тогда казалось, гармоническому гению: "Я совершу... Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны" . В 1834 году был начат "Ревизор". Однако именно успех этой сатирической комедии убедил Гоголя в том, что произведение он создал, может быть, и замечательное, но совсем не пушкинское. Это повергло его почти что в отчаянье. Он обиделся на всех, даже на Пушкина и бросился назад — на Запад.
В Италию Гоголь добирался кружным, но, как он скажет потом, единственно правильным путем. Прежде чем отправиться в Рим, Гоголь побывал в Германии, в Швейцарии, в Париже, куда он, по его словам, заехал, сам того не желая. "Я попал в Париж почти нечаянно. В Италии холера, в Швейцарии холодно. На меня напала хандра, да притом и доктор требовал для моей болезни перемены места". Париж Гоголю был ни к чему. "Париж город хорош для того,— писал он Н. Я. Прокоповичу,— кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь,., Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливцам праздным, как мы с тобой", Гоголь шутит со своим школьным приятелем и шутливо, по-школьнически, примеривается к пушкинскому Моцарту. Он не подозревает, что через два дня Пушкин сядет в сани и поедет на Черную речку стреляться с Дантесом. Пушкин пока еще жив, и затеянный в России роман пишется у Гоголя легко и весело. "Мертвые текут живо,— сообщает он Жуковскому,— свежее и бодрее, чем в Веве". Весть о гибели Пушкина застала Гоголя в Париже. Она потрясла и переворотила весь его мир. Россия без Пушкина на какое-то время перестала для Гоголя быть Россией. Пушкин обернулся мечтой, национальной грезой России. Расстояние до гармонически развитого русского человека стало опять огромным, но в преодолимости его Гоголь не сомневался. Весной 1837 года он уехал из Парижа в Рим, в частности и потому, что твердо верил в историческую, а главное — эстетическую осуществимость русской национальной мечты об истинно прекрасном, идеальном человеке. Задуманный в духе "Ревизора" многоплановый сатирический роман стал превращаться в Италии в величаво текущую эпопею, в русскую национальную поэму. В Риме завязывалась главная, сквозная тема классической русской литературы XIX столетия, тема воскресения, возрождения в человеке человека. Происходило это не без участия итальянской национальной классики— литературы и искусства Высокого Ренессанса. Поездка Гоголя в Рим оказалась для судеб европейской культуры не менее эпохальной, нежели итальянское путешествие Гёте. Первые впечатления от Рима были глубокими и, несмотря ни на что, праздничными и радостными. Гоголю вдруг показалось, будто он перенесся в прекрасный мир юности, причем не величавой юности всей европейской культуры, а своей собственной, нежинской, украинской. Город Рим представился Миргородом. "Мне кажется,— писал Гоголь из Рима одному из своих приятелей по нежинской гимназии,— что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платье мелом, старинные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет". На первый .взгляд это тоже может показаться шокирующе неожиданным. В 30-е годы XIX века папский Рим Григория XVI был едва ли не самым консервативным и, более того, самым реакционным государством Западной Европы. Тем не менее мы очень бы ошиблись, предположив, будто в Риме Гоголя восхитил общественно-политический застой и клерикальное мракобесие. Гоголь не любил, да и просто не умел пользоваться понятиями современной ему публицистики. Однако, когда сегодня вчитываешься в письма Гоголя из Рима и в отрывок "Рим", становится совершенно ясно, что в казалось бы остановившейся жизни Вечного города автор "Тараса Бульбы" и "Старосветских помещиков" увидел не застой теократического государства, а устойчивость жизненных основ, которые требовались в XIX веке для того, чтобы строить классическое здание национальной русской литературы, соизмеримое с по-ренессансному гармоничным пушкинским идеалом истинно прекрасного человека, Анненков не просто во многом верно оценил отрывок "Рим", но и поставил его в контекст жизни я творчества Гоголя конца 30-х-—начала 40-х годов. "Влияние Италии и особенно Рима,— отмечает он, - начинает все более усиливаться и проявляется отвращением к европейской цивилизации., наклонностью к художественному уединению сосредоточенностью мысли, поиском за крепким основанием, которое могло бы держать дух в напряженном довольстве одним самим собой", П. В. Анненков выражается по-гегельянски. Если перевести его слова на обычный русский язык, то получится, что Гоголь приехал в Италию, дабы отыскать в Риме основы, на которых русская национальная культура, как это уже случилось в эпоху Возрождения с национальной культурой Италии, могла бы обрести необходимую ей свободу и вместе с ней идеальную форму для воплощения национального самосознания русского слова и русского народа. Передавая одну из своих римских бесед с Гоголем, Анненков пишет: "Вот,— сказал он раз,— начали бояться у нас европейской неурядицы — пролетариата... думают, как из мужиков сделать немецких фермеров... А к чему это?.. Можно ли разделять мужика с землею?.. Какое же тут пролетарство? Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидав землю свою; некоторые ложатся и целуют ее как любовницу. Это что-нибудь да значит?.. Об этом-то и надо поразмыслить..." Вообще он был убежден тогда, что русский мир составляет отдельную сферу, имеющую свои законы, о которых в Европе не имеют, понятия. Как теперь смотрю на него, когда он высказывал эти мысли своим протяжным, медленно текущим голосом, исполненным силы и выражения. Это был совсем другой Гоголь, чем тот, которого я оставил недавно в Париже... Все в нем установилось, определилось и выработалось" (курсив мой.—Р. X.). "...Взлелеянный уединением Рима, он весь предался творчеству и перестал читать и заботиться о том, что делается в остальной Европе... В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, Илиады Гнедича и стихотворений Пушкина..." С Анненковым не во всем можно согласиться: Гоголь в Риме не отделял Россию от Запада, а наоборот, включал при нем и в нем рождавшуюся национальную русскую культуру в гуманистическую культуру Европы, которую он всегда рассматривал как единую, органически развивающуюся историческую целостность. В Риме он читал не только Данте и Гомера, но и многих современных ему западноевропейских писателей, в частности Диккенса. Однако самое главное в "римском" Гоголе Анненков если не до конца понял, то во всяком случае почувствовал и угадал. В Риме Гоголь делал великое русское дело, считая его делом европейским и в известном смысле всемирным, всечеловеческим. Вот почему он так резко, может быть даже излишне резко, противопоставил якобы остановившуюся жизнь Вечного города стремительным изменениям враждебного человеку капиталистического "прогресса", с которым столкнулся в Западной Европе и который навсегда отвратил его от уже не революционного, а очень буржуазного Парижа. Вот почему он так болезненно остро отреагировал на статью Белинского "Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя "Мертвые души", в которой замечательный и высоко ценимый Гоголем критик заметил, что в гоголевском отрывке, где есть удивительно яркие и верные картины действительности, "есть и косые взгляды на Париж: и близорукие взгляды на Рим". Последние слова Белинского особенно задели Гоголя. "Он хочет,—писал Гоголь С. П. Шевыреву,-—чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет Белинский. Я бы был виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж. Потому что и я, хотя могу столкнуться в художественном чутье, но вообще не могу быть одного мнения с моим героем. Я принадлежу к живой и современной нации, а он к отжившей". О Париже Гоголь действительно судил и непримиримее и строже, чем молодой князь из "Рима", но с изображенным в отрывке итальянцем у Гоголя было немало общего. Гоголь недаром наделил итальянского князя "живой душой". Только тогда, когда в молодом князе "развернулась его живая итальянская природа, дремавшая под скучным надзором аббата", душа его отозвалась на "сильное политическое движение в журналах", начатое Июльской революцией 1830 года, и у него возникло "желание побывать в заальпийской, в настоящей Европе": "Вечное ее движение и блеск заманчиво мелькали вдали. Там была новость, противоположность ветхости итальянской, там начиналось XIX столетие, европейская жизнь". Гоголь показывает блестящий, бурлящий город глазами очарованного молодого итальянца, и авторское отношение к Парижу выдает лишь стиль, лишь риторика анафористически выстроенных периодов: "Он зевал перед светлыми, легкими продавицами, только что вступившими в свою весну... Он зевал и перед книжной лавкой, где, как пауки, темнели на слоновой бумаге черные виньетки... Он зевал и перед машиной, которая одна занимала весь магазин.., Он зевал пред лавками... Он зевал и на широких бульварах..." Бурление западноевропейской столицы на поверку оказалось бессодержательной суетой, засасывающей и съедающей живого человека. Даже светские львы обернулись "парижскими крокодилами", В гоголевском отрывке наметились некоторые бальзаковские темы, в частности столь важная для почти всей западноевропейской литературы XIX века тема утраты иллюзий. "Во многом он разочаровался,— говорит Гоголь об итальянском князе.— Тот же Париж, вечно влекущий к себе иностранцев... уже показался ему много, много не тем, чем был прежде". Несомненно, философия истории Гоголя (а такая философия у Гоголя была, и не случайно Анненков в 1846 году увидел у него "лицо философа") грешила ничем не прикрытым идеализмом. Негодования Белинского по поводу "Рима" понять не сложно. Тем не менее упрекать Гоголя за его глухоту к социально-утопическим идеям Фурье и усматривать один лишь философский идеализм в художественной картине великого русского мастера было бы по меньшей мере несправедливо. Вспомним хотя бы, как воспринял послереволюционный буржуазный Париж уже не воспитанный малограмотным аббатом итальянский князь, а высокообразованнейший А.И. Герцен. Кроме того, не надо забывать и о том, что намеренно тенденциозное изображение суетного и пустого бурления Парижа понадобилось поэту Гоголю не ради глумливого осмеяния "француза", а для художественного противопоставления жизни мнимой и мертвой жизни классического искусства, а также — и это главное — для выявления роли национальной русской культуры в европейской жизни XIX столетия. Отрывок "Рим" — произведение, по-гоголевски пророческое. В нем рассказано не только об утрате романтических иллюзий, но и о возрождении великих гуманистических идеалов. Разойдясь с Белинским, Гоголь во многом сошелся с Герценом, основоположником "русского социализма", И в этом не было ничего особенно странного. Вернемся, однако, к итальянскому князю. Разочаровавшись в Париже, князь уехал домой, в Рим. Маршрут его повторяет маршрут Гоголя. Возвращение князя описано в отрывке подробно. Чем ближе к Риму, тем больше сливается "живая итальянская природа" князя с воскресшей душой русского поэта. Возвращение князя в Рим превращается в возвращение Гоголя на свою вторую духовную родину, туда, где обретает он опять Россию Пушкина, Россию идеального, истинно прекрасного человека. Тщательно, я сказал бы даже концептуально-тщательно (а потому и несколько схематично) описывает Гоголь Рим, увиденный молодым князем. Сходство героя и автора превращается почти в тождество. Теперь уже итальянец, исконный уроженец Рима, уподобляется русскому поэту. Гоголь пишет о князе: "...он уединился совершенно, принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами, и с недоумением вопрошает, попадая из переулка в переулок: "где же огромный древний Рим?" — и потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной". Миргород превращается в Град, в Рим-город. Уподобив открывающего для себя Рим итальянского князя иностранцу, Гоголь вместе с тем отделил его от праздных-иностранных туристов, в том числе и русских, которых сам он всегда сторонился и глубоко презирал: "Но не так, как иностранец, преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город,-— нет, он находил все равно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могучий средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век с толпящимся новым народонаселением". И снова взволнованный голос уже не князя, а самого автора выдает стиль, та же риторика анафористически выстроенных периодов. Но смысл ее уже прямо противоположен тому, который несли в себе гоголевские анафоры, возникавшие на страницах, посвященных Парижу. Вместо "он зевал..." настойчиво повторяется "ему нравилось..,": "Ему нравилось это чудное их слияние в одно, эти признаки людной столицы и пустыни вместе... живой крик рыбного продавца у портика, лимонадчик с воздушной, украшенной зеленью лавчонкой перед Пантеоном. Ему нравилась самая невзрачность улиц темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок: на домах, идиллия среди города... Ему нравились эти беспрерывные внезапности, неожиданности, поражающие в Риме". Гоголь не только увидел, как в Риме соприкоснулись две великие европейские идеи, языческая и христианская, и как от их взаимопроникновений родилось величайшее классическое искусство Ренессанса, но он непосредственно воспринял гуманистическую культуру итальянского Возрождения как все еще живое явление европейской действительности, прикосновение к которому жизненно необходимо русскому художнику, "ибо высоко возвышает искусство человека, придавая благородство и красоту чудную движеньям души". Только что вернувшийся из Швейцарии в Италию Гоголь писал М. П. Балабиной, делясь с ней чувствами, охватившими его при второй встрече с Римом: ">..и был так полон в это время, и мне казалось, что я в таком многолюдном обществе, что я припоминал только, чего бы не забыть, и тот же час отправился делать визиты всем своим друзьям. Был у Колисея, и мне казалось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был величественно мил и на этот раз особенно разговорчив. Я чувствовал, что во мне рождались такие прекрасные чувства! стало быть он со мной говорил. Потом я отправился к Петру и ко всем другим, и мне казалось, они все сделались на этот раз гораздо более со мной разговорчивы". Мы очень многое потеряем, если увидим в этом только литературные метафоры и гоголевские преувеличения. Надо верить Гоголю. Надо верить русскому гению. А не то мы утратим самые важные ориентиры и очень многого не поймем. Во всяком случае, в столь важном для всех нас мире Гоголя. Когда в отрывке "Рим" Гоголь принимается описывать искусство ренессансно-барочного Рима, окончательно перестаешь понимать, о ком он, собственно, говорит, о молодом итальянском князе или же о себе самом, о русском писателе дописывающем "Мертвые души", переделывающем "Портрет" и гармонизирующем драматургическую целостность "Ревизора": "И чем далее вглубь уходили улицы, тем чаще росли дворцы и архитектурные созданья Браманта, Борромини, Сангалло, Деллапорта, Виньола, Бонаротти — и понял он, наконец, ясно, что только здесь, только в Италии, слышно присутствие архитектуры и строгое ее величие, как художества". Гоголь досконально знал, понимал и ощущал Рим, как никто другой в современной ему Европе, и, вероятно, именно потому, что он был глубоко русским поэтом. Умная и хорошо понимавшая Гоголя А. О. Смирнова-Россет свидетельствует: "Николаю Васильевичу Рим, как художнику, говорил особенным языком. Это сильно чувствуется в его отрывках о "Риме". St. Beuve встретил его на пароходе, когда после смерти Иосифа Виельгорского они ехали в Марсель... St. Beuve говорил, что ни один путешественник не делал таких точных и вместе оригинальных наблюдений". Стендаля Сент-Бёв знал. Из гоголевской заметки "Путешествие Александры Осиповны", как это убедительно показал откомментировавший заметку С. Н. Дурылин, могли бы получиться несравненные "Прогулки по Риму", Если Гоголь не стал состязаться с французским писателем, то произошло это прежде всё потому, что даже в Риме Гоголя волновали мысли не о Риме как таковом, а о России. Когда в 1837 году М. П. Погодин усиленно звал Гоголя вернуться на родину и даже, кажется, высказывал сомнение в искренности гоголевского патриотизма, Гоголь ему ответил: "Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусством и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могучие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны?" Это было написано до опубликования в погодинском "Москвитянине" отрывка "Рим". Однако и после того, как "Рим" был опубликован, Гоголь мог бы повторить сказанное им в 1837 году Погодину. Гоголь приехал в Рим несравненно более подготовленным к восприятию Вечного города, чем главный герой его отрывка. Некогда широко распространенное мнение, будто Гоголю "недоставало образования" — одна из типично гоголевских мистификаций, жертвой которой стал и сын прославленного русского историка А. Н. Карамзин. Именно потому, что, еще будучи в России, Гоголь вживался в искусство итальянского Возрождения, он сумел взглянуть на Рафаэля, Тициана, Микеланджело совсем свежим взглядом, заново открыть их непреходящую ценность и увидеть в высококлассических произведениях итальянского гения не только титаническую, ренессансную силу, но и несокрушимую жизненную опору, которая потребовалась ему тогда, когда он принялся пробуждать, казалось бы, мертвые российские души. После того как молодой итальянский князь из гоголевского отрывка увидел и заново открыл для себя величавую, нетленную красоту классического Рима, ему захотелось разгадать его загадку, понять смысл и значение Вечного города в жизни современной обуржуазившейся и опошлившейся Европы. Герою "Рима" предстояло подняться до автора. Мало-помалу итальянского князя перестала удовлетворять "жизнь в созерцаньях природы, искусств и древностей": "Среди сей жизни почувствовал он, более нежели когда-либо, желание проникнуть поглубже историю Италии, доселе ему известную эпизодами, отрывками; без нее казалось ему неполно настоящее, и он жадно принялся за архивы, летописи и записки". Какие именно записки и летописи прочел князь, в отрывке не сказано. Но зная, что читал и советовал читать Гоголь, представить это все-таки можно. Составленный Гоголем перечень авторов (назначение его пока не вполне ясно) начинают итальянские имена: Тирабоски, Вазари, Ланци, Гвиччардини. Муратори, Макьявелли. Все это — имена историков. Все они занимались историей культуры итальянского Возрождения. Особенно примечательно занесение в этот список имени Лодовико Антонио Муратори. С его имени начинается и итальянский раздел составленной Гоголем (видимо, в 1834 году) "Библиографии средних веков". "Из сочинений, относящихся к общей истории Италии,— писал молодой Гоголь,— более всего замечательны два сочинения Муратори "Scriptores rerum Italicorum" и "Antiquitates Italicae medii aevi", раскрывающие ясно существование городов и республик в средние века". Трудно сказать, как ив какой мере полно познакомился двадцатилетний Гоголь с латинскими сочинениями замечательного итальянского историка-просветителя первой половины XVIII века и собранными им многочисленными документами и хрониками. Строить какие-либо предположения, когда дело касается Гоголя,— занятие в высшей мере рискованное. Как бы то ни было, не подлежит сомнению одно: основное, самое главное, то, что принципиально и выгодно отличало Лодовико Муратори не только от Вольтера, но и от большинства западноевропейских просветителей, создатель "Тараса Бульбы" осознал поразительно правильно. По свидетельству Смирновой-Россет, Гоголь как-то сказал ей: "Историю еще не писали так, чтобы живо обрисовался народ или личности. Вот один Муратори понял, как описать народ, у него одного слышится связь, весь быт его народа, его связь с землей, на которой он живет". У молодого князя из отрывка "Рим", несомненно, было больше возможностей, чем у Гоголя, изучить собранные Муратори хроники, а также прочитать сочинения Макьявелли, Гвиччардини, Тирабоски. Читал он, кажется, много, усердно и внимательно. Во всяком случае, ему удалось довольно верно схватить суть, гуманистический смысл той яркой, весьма противоречивой, отнюдь не идиллической эпохи, которую назовут потом итальянским Возрождением. Князь "был поражен величием и блеском минувшей эпохи Италии. Его изумляло такое быстрое разнообразное развитие человека на таком тесном углу земли, таким сильным движеньем всех сил. Он видел, как здесь кипел человек... целый ряд великих людей, столкнувшихся в одно и то же время; лира, циркуль, меч и палитра; храмы, воздвигающиеся среди браней и волнений; вражда, кровавая месть, великодушные черты и кучи романтических происшествий частной жизни среди политического, общественного вихря и чудная связь между ними; такое изумляющее раскрытие всех сторон жизни политической и частной, такое пробуждение в столь тесном объеме всех элементов человека, совершавшихся в других местах только частями и на больших пространствах!" (курсив мой.— Р. X.) В сопоставлении с богатой, процветающей ренессансной Италией XV — XVI вв. экономически отсталая, захолустная Италия первой половины XIX века показалась молодому князю особенно жалкой, и это его искренне печалило. "...Неужели,— думал он,— не воскреснет никогда ее слава? Неужели нет средств возвратить минувший блеск ее?" На некоторое время князь мысленно вернулся к пылким мечтам университетской юности, когда под влиянием революции во Франции поверил в возможность общественно-политического возрождения Италии, в идеалы Рисорджименто (в 20 — 30-е годы XIX века "это было любимой мыслью молодежи"). Однако опыт, приобретенный им в послереволюционном Париже, не пропал даром. Князь понял, "как близорука была молодежь", а главное, "как близоруки бывают политики, упрекающие народ в беспечности и лени" и на этом основании полагающие, будто они могут вершить судьбами мира, не оглядываясь на народ, на его слово и на его идеалы. Герой отрывка и автор постепенно сближаются, и большие исторические надежды русского поэта начинают одушевлять почти уже по-европейски "омертвевшего", разуверившегося в Риме итальянского князя. "...Утешительная, величественна* мысль приходила сама к нему в душу, и чуял он другим, высшим чутьем, что не умерла Италия, что слышится ее неотразимое вечное владычество над всем миром, что вечно веет над нею ее великий гений, уже в самом начале завязавший в груди ее судьбу Европы..." Молодого князя укрепляла в таких его мыслях вовсе не одна лишь итальянская музыка, которая в XIX веке по-прежнему звучала "и на берегах Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземного, Черного моря, в стенах Алжира, и на отдаленных, еще недавно диких, островах", нет, его воодушевлял теперь уже совсем по-гоголевски увиденный Вечный город, в котором малороссийский Миргород влился в ренессансно-барочный Римгород. Молодой итальянский князь думает о значении Рима для современного мира, и его мысли воспринимаются уже как мысли национального русского поэта, увидавшего на монументальном полотне Александра Иванова не "Появление Мессии" (так называл картину сам художник), а явление Христа народу и именно поэтому предугадавшего, что русской классической литературе предстоит величественно завершить историческое развитие европейской гуманистической культуры, зародившееся в XIV—XV веках в недрах ренессансной Италии. Князь думает: "И самое это чудное собрание отживших миров, и прелесть соединенья их с вечно цветущей природой — всё существует того, чтобы будить мир, чтоб жителю Севера, как сквозь сон, представлялся иногда этот Юг, чтоб мечта о нем вырывала его из среды хладной жизни, преданной занятиям, очерствляющим душу,-— вырывала бы его оттуда, блеснув ему нежданно уносящею вдаль перспективой, колизейскою ночью при луне, прекрасно умирающей Венецией, невидимым небесным блеском и теплыми поцелуями чудесного воздуха,— чтобы хоть раз в жизни был он прекрасным человеком..." (курсив мой.— Р. X.). Герой отрывка не только снова соединяется с автором, но и отходит в его тень. На первом плане высвечивается сам Гоголь, тот Гоголь, которого трагическая гибель прекрасного русского человека Пушкина надолго приковала к Риму, который обрел в классическом Риме необходимые ему нравственно-эстетические и вместе с тем актуально жизненные устои и который именно поэтому уверовал в Риме в великое историческое будущее национальной русской культуры, русского народа, всей России. Рассказывая о тех уроках, которые извлек герой отрывка "Рим" из добросовестного изучения собранных Муратори итальянских средневековых хроник, Гоголь замечает: "Итог всего этого был тот, что он старался узнавать более и более свой народ". В казалось бы захолустном, папском Риме пред князем и перед теперь уже неотделимым от него русским поэтом предстал народ, о котором трудно сказать, какой это народ — народ древней, прекрасной Италии или же народ великой, еще не раскрывшейся России. Герой "Рима" увидел "народ, в котором живет чувство собственного достоинства... il popolo, а не чернь", который "носит в своей природе прямые начала времен первоначальных квиритов", в котором "все как-то согласовалось с важностью Рима", "живой, не торопящийся народ, живописно и покойно расхаживающий по улицам, закинув полуплащ или набросив себе на плечо куртку, без тягостного выраженья в лицах, которое так поражало его на синих блузах и на всем народонаселении Парижа". И вместе с тем герою гоголевского отрывка открылась "стихия народа сильного, непочатого, для которого как будто бы готовилось какое-то поприще впереди". Видя в народе уже не простонародье, не низменную чернь, a "il popolo", Гоголь как бы смотрит на народ глазами Петрарки или Микеланджело и не только потому, что он народ по-ренессансному идеализирует, но также и потому, что он как-то очень по-возрожденчески смотрит на народ сквозь призму идеального, "универсального человека", сквозь призму изобразительного искусства и поэзии. Говоря о впечатлениях обогащенного чтениями Муратори молодого князя, Гоголь пишет: "...женщины казались подобными зданьям в Италии: они или дворцы, или лачужки... Он ими наслаждался, как наслаждался в прекрасной поэме стихами, выбившимися из ряда других и насылавшими свежительную дрожь на душу". Художественно чуткий Аполлон Григорьев не зря усмотрел в героине "Рима" Аннунциате "создание могущественной кисти мастеров древней Италии". Описанная в начале отрывка величавая, спокойная красавица превращается посреди ликующего римского карнавала в истинно прекрасную женщину из народа, в Аннунциату, увиденную глазами молодого итальянского князя, уже разглядевшего в итальянском народе "il popolo" и по-ренессансному отождествившего себя с тем самым народом, которого приобщение к подлинной красоте превратило в художника, в творца: "Всё, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, всё это собралось сюда вместе. Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц. Пред ее густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Ее руки были для того, чтобы всякого обратить в художника... Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить. Тут не нужно было иметь какой-нибудь особенный вкус; тут все вкусы должны были сойтись, все должны были повергнуться ниц: и верующий, и неверующий упали бы пред ней, как пред внезапным появленьем божества. Он видел, как весь народ, сколько его там ни было, загляделся на нее, как женщины выразили невольное изумленье на своих лицах, смешанное с наслажденьем, и повторяли: "О, bella!"; как всё, что ни было, казалось, превратилось в художника и смотрело пристально на одну ее" (курсив мой. - Р. X.). В ренессансно-барочном, классическом Риме великий русский поэт Гоголь окончательно понял, что всякое истинно национальное искусство народно, что оно порождено народом и принадлежит народу. "Полная красота,— скажет он в "Риме",— дана для того в мир, чтобы всякий ее увидал, чтобы идею о ней сохранял вечно в своем сердце. Если бы она была просто прекрасна, а не такое верховное совершенство, она бы имела право принадлежать одному, ее бы мог он унести в пустыню, скрыть от мира. Но красота полная должна быть видима всем. Разве великолепный храм строит архитектор в тесном переулке? Нет, он ставит его на открытой площади, чтобы человек со всех сторон мог оглянуть его и подивиться ему" (курсив мой. — Р. X.). Однако Гоголь не был бы Гоголем, то есть национально русским классическим писателем,, если бы остался на уровне ренессансной поэзии или даже изобразительного искусства классического итальянского Возрождения. В идеализированном по-ренессансному итальянском "Popolo" он разглядел не только потомков квиритов, но и вполне реальный народ современного ему живого Рима и сумел изобразить его с такой реалистической поэтичностью, до которой не поднимались ни поразивший Гёте Карло Гольдони, ни восхищавший Гоголя и в то время еще неизвестный не только в Европе, но и в самой Италии Джузеппе Джоакино Белли [3]. В поисках Аннунциаты князь добрался до Затибрия, поднялся на холм и оказался на площадке подле церкви Сан-Пьетро ин Монторио, откуда открывается прекрасный вид на весь город: "...здесь князь взглянул на Рим и остановился: пред ним в чудной сияющей панораме предстал вечный город... Боже! какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и всё, что ни есть на свете". Князь позабыл об Аннунциате только потому, что, созерцая Рим, он ее по-настоящему обрел. Красавица Аннунциата — это и есть подлинный Рим, его бессмертная народная душа. "Рим" только назван "отрывком". На самом деле это произведение, обладающее классической, ренессансной законченностью. Вчитавшись в "Рим" и взглянув на Вечный и вечно живой город глазами уже не князя, а русского поэта, понимаешь, почему в Риме Гоголем овладела жажда гармонии и совершенства и почему именно там, работая над "Мертвыми душами" и перерабатывая "Тараса Бульбу" и "Портрет", он сумел удовлетворить эту свою жажду, О влиянии Рима, ренессансного Рима, на стиль классической прозы Гоголя писал еще в 1842 году С. П. Шевырев. Перед всеми тогдашними критиками Гоголя у него было то несомненное преимущество, что он видел Гоголя в Риме. Некоторые из его наблюдений замечательны. Но не буду умножать цитаты. Не стану также перечислять итальянские и собственно римские реалии, сохранившиеся в текстах "Мертвых душ", "Портрета" и даже "Шинели". Это делалось и, видимо, еще будет делаться. Тема* эта совсем особая. Отмечу только одно соответствие, существующее между первыми строками отрывка "Рим" и заключительными строками первого тома поэмы: "Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскрывши черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потоком блеска: таковы очи у альбанки Аннунциаты", "Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?,. Русь, куда же несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства". Явление Аннунциаты предвещало не только открытие вечно живого Рима — оно предвещало открытие народной России.
ПРИМЕЧАНИЯ[1] Игорь Золотусский. Гоголь. М., 1979, с. 164. [2] К. Маркс, Ф. Э нг е л ь с. Сочинения, издание второе, т. 20, с. 346. [3] О творческих связях Гоголя и Белли см. подробнее в "Иностранная литература", 1984, № 7, с. 163 — 165. |