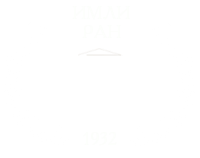Для представления о собственно пушкинской традиции предварительно сразу же отрешиться от расхожего мнения, так красиво впервые заявленного Аполлоном Григорьевым: "Пушкин - наше все". Вообще-то, если всмотреться в эту красоту, Григорьев вовсе не утверждает, что в Пушкине можно найти все, а с другой стороны, что и для нас он исчерпывает все необходимое или присутствует во всем. Григорьев говорит, что "Пушкин - представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами" 1 . То есть Пушкин - главная (после, конечно, религии) наша духовная ценность. Только это он говорит, а привычное расширительное понимание проистекает от нашей растроганности или умиленности.
Однако и такое суженное и потому, видимо, содержательно обедненное представление не определяет традиции как таковой, потому что говорит о ценности, а не о характерности. А ценность включает в себя далеко не только характерное. Так, мы считаем пушкинские сказки вершиной поэзии в этом роде; для детского воспитания они бесценны; в сладких воспоминаниях каждого из нас тоже. Но они, в свою очередь, так перегружены традиционностью (литературно-фольклорные прототипы), что собственно пушкинскую традицию могут представлять весьма условно.
Выпадающий в силу своей грандиозности из всех, как кажется, типологических ухватов, Пушкин тем не менее является передаточным звеном культурно-исторического процесса, помимо своего абсолютного значения, как бы кощунственно это ни звучало. Ценность уникальная, он, как человек и литератор, говорил и писал на общепонятных языках. Гений, понимание которого для потомков привычно недостаточно, он был, однако, доступен пониманию окружающих, причем отнюдь не мудрецов: Нащокина, Дельвига, например; он и особенно откровенен был с ними потому, что они его по- настоящему понимали. Бесконечный Пушкин не только конечен во времени и пространстве, что очевидно, но и ограничен в своем содержании, чего признавать не хочется. Неисчерпаемый в привычно метафорическом смысле слова, "непостижный уму" приученных к непостижимости гения, он конкретен в своей непреходящей силе - и "слабостях", обусловленных обстоятельствами.
Применяю кавычки не только из-за страха перед обвинением в кощунстве, но и оттого, что эти "слабости" (скажем, заносчивость в отношении знатности рода или любование имперской славой России) могут представляться таковыми лишь с известной точки зрения, подобно тому как, скажем, лавочнику смешна гибель дворянина на поле чести. Разумеется, из представления о пушкинской традиции надо отвести и то, что сам Пушкин применительно к "слабостям могущего" означил знаменитыми словами: "Врете, подлецы: он и мал и мерзок - не так, как вы - иначе" (13; 244) 2 . Житейская сторона натуры может, конечно, образовать свою традицию, желание стилизовать себя "под Пушкина", но нас подобное, конечно, не занимает.
С.М. Бонди говорил шестьдесят лет назад как о самоочевидном: ""Встреча с Пушкиным" - важный момент в творческой биографии каждого русского писателя" 3 . Пусть так, однако строгое понимание традиции предполагает не любое наследование "черт" и использование предшественника, но принятие, усвоение, развитие неких содержательных или формальных принципов, индивидуально присущих Пушкину, большей частью творчески им подтвержденных. Впрочем, иногда они только намечены (например, о христианских основаниях общественной нравственности - "улучшении нравов" (8; 319 и 11; 258), что явственно проступает в стихах "Отцы пустынники...", "Мирская власть", в отзывах на "Словарь о святых..." и сочинение Сильвио Пеллико).
В представлении о традиции применительно к Пушкину должна учитываться далеко не только художественность и собственно эстетика. Раз духовный феномен Пушкина обнаруживает общекультурное наполнение, а сам он, по определению умнейших людей, предстает наиболее полным русским человеком, то пушкинская традиция неизбежно включает и внехудожественное содержание, т.е. пушкинское индивидуальное миро-отношение в его единстве; она не может мыслиться как простая совокупность отдельных "черт" или поэтических - в самом широком смысле - признаков.
При таком представлении понятно, что Пушкин не оставил прямого потомства среди писателей высшего ранга - прямого, т.е. хоть чуть соизмеримого с собой не по величине, понятно, но по сходной характерности творчества. Ожидаемое возражение: да ведь это участь каждого великого художника - бьет здесь мимо цели. Дело не в понятной неповторимости, а скорее - хотя говорю и неточно - в невозможности вольного или невольного, но оригинально творческого подражания.
Показателен побочный факт: Пушкина, несмотря на его несомненную для любого восприятия неповторимость, вроде бы узнаваемость, в широком смысле стильность, так и не сумели пародировать. И самую лучшую пародию придумал самый рьяный неприятель Н. Полевой: заменив одно слово и вставив лишнюю точку, он без иных изменений переписал все строки посвящения к "Евгению Онегину" в обратном порядке, от конца к началу. Получившееся стихотворение, на поверхности складное, намерено было демонстрировать пустоту блестящей пушкинской поэзии; на деле же эта затея показала, кроме остроумия пародиста, бессилие противников: даже перевернутый "текст" (как ныне принято называть поэтическое произведение) оказывается неуязвимым, потому что остаются невыявленными хотя бы слабые стороны его особого лица.
Традиция как индивидуальная характерность - таково самое первое ограничение, оно же первый подступ к определению. Поэтому когда говорят - в плане идейном - о гуманизме, вольнолюбии, или - в плане эстетическом - о "точности и краткости" прозы (11; 19) и т.п. как пушкинской традиции, то это не неверно, конечно, но не специфично; ведь надо еще специально разбираться в особенностях пушкинского понимания ценности человека как личности, что очень непросто, надо установить и несводимость "краткости" к общему объему, или количеству слов, что чаще всего имеется в виду, и т.д.
М. Зощенко вряд ли только озоровал, когда к юбилейному 1937-му году сочинил "Талисман" - "шестую повесть Белкина", стилизацию под Пушкина. Получилось, правда, больше похоже на Марлинского, где сквозь условный стиль проступают привычные зощенковские ужимки. Сам писатель означает, что им наследуются "занимательность, краткость и четкость изложения, предельная изящность формы, ирония", "чем так привлекательна проза Пушкина". Почти сорок лет назад я уже обратил внимание на серьезные сопроводительные слова Зощенко к своему не очень ловкому подражанию ("копии"): "Иной раз мне даже казалось, что вместе с Пушкиным погибла та настоящая народная линия в русской литературе, <...> которая (во второй половине прошлого столетия) была заменена психологической прозой, чуждой, в сущности, духу нашего народа" 4 . Тогда же, не соглашаясь, понятно, с приведенным мнением о чуждости , я подчеркивал именно серьезность подмеченной юмористом известной замкнутости пушкинской "линии" 5 .
Привлечение имени Зощенко может показаться несолидным в предприятии, требующем повышенной строгости. Однако поучительно, что талантливый бытописатель, далекий от пушкинского видения жизни, вроде бы готовый находить следование Пушкину в соблюдении перечисленных признаков ("занимательность" и проч.), вдруг останавливается: а где же она, "настоящая линия", пушкинская? Замкнулась, "погибла"? Значит, дело не в разных расхожих "занимательностях" самих по себе? Такая, с позволения сказать, диалектика представления, в общем-то любительского, отражает реальную противоречивость положения: видимая простота оставленных Пушкиным в наследство свойств - и далеко не очевидная и очень трудно определимая искомая характерность, в которой надо заметить традицию, прежде чем следить за ее судьбой в потомстве.
Кстати, любопытна перекличка, - невольная, конечно, - Зощенко с Блоком. Последний по ходу размышлений о "космосе" и "хаосе" в искусстве приходит к заключению, что после Пушкина "наша литература как бы перестала быть искусством, и все, что мы любили и любим (кончая Толстым и Достоевским), - гениальная путаница"; ее и ее "хаос", т.е. ""разливанное море" бесконечной "психологии"", надо преодолевать 6 . Опять же не станем защищать "психологию", воссоздание которой, между прочим, тоже по части "космоса"; но и здесь пушкинская традиции "искусства" противопоставляется позднейшему развитию.
Конечно, по ходу ограничений следует исключить по возможности из круга внимания самый момент гениальности как поля для установления аналогий. Приходится, скажем, читать, что на рубеже XIX и XX вв. истинным пушкинцем выступает Чехов. Да, по относительному весу и по значимости для последующей мировой литературы Чехов даже влиятельнее. Только называние кого-либо Пушкиным такой-то эпохи, независимо от правомерности измерения, к нашему предмету отношения не имеет.
Хорошо бы отрешиться при этом и от обольщения похожестью схемы творческого движения писателя, его развития, - например, столь популярного у литературоведов и в школьном преподавании прослеживания "перехода от романтизма к реализму" (Лермонтов, Гоголь, Белинский, Тургенев, вплоть до Горького), что тоже вроде бы наследует пушкинскую специфику. В каждом отдельном случае аналогия может оказаться внешней, а процесс прихотливее.
Словом, чтобы когда-нибудь приблизиться к конкретному пониманию, а потому и внятному определению того, что же есть искомая "пушкинская живая традиция", необходимы разные предварительные ограничения. В этом плане попутно можно вспомнить некоторые показательные случаи недовольства Пушкиным даже со стороны вовсе не неприятелей. Так, А.К. Толстой, всегда склонный к вышучиванию авторитетов, на страницах тома стихотворений рядом с пушкинским текстом делал собственные стихотворные же иронические примечания-продолжения, а в конце дал приписку с красочным перечнем:
"Вакх, Лель, хариты, томны урны,
Проказники, повесы, шалуны,
Цевницы, лиры, лень, Авзонии сыны,
Камены, музы, грации лазурны,
Питомцы, баловни луны,
Наперсники пиров, любимцы Цитереи
И прочие небрежные лакеи" 7 .
Для А. Толстого 60-х гг. времена поэтической культуры "харит" и "Цитереи" давно прошли; и умный Толстой далек от глуповатых нигилистов, сводивших пушкинскую поэзию к воспеванию дамских прелестей. У отважившегося спорить с великаном всерьез ("Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис" Толстого - и "Борис Годунов" Пушкина) здесь, в шутливой пикировке изначальное неприятие "харит" замещает то, что у Пушкина было постепенным, хотя и очень скорым преодолением по мере роста. И возможные поиски аналогии пушкинской эволюции "от..." "к..." или "до..." были бы неуместны. Впрочем, в данном случае (поэзия, шире - идейно- творческий мир А. Толстого) пушкинская традиция вообще и не искалась: слишком уж приучили нас к нерасторжимости связи Пушкина с "освободительным движением", а Толстого - со службой двору и "охранительством"; все это еще сравнительно недавно было главным в определении родства, свойства или чуждости писателей друг другу. Другое дело - аналогии, так сказать, "смены вех" в развитии миропонимания. Тут пушкинский путь от отроческого вольтерьянского цинизма и полуатеизма через либерализм с гражданственностью декабристского толка к зрелому патриотизму и "государственным мыслям историка" (11; 419) образует действительную традицию в русской литературе, отчасти освоенную. До Пушкина у нас подобного не было; он первый.
Но, как видно, все подобное касается внутренних, глубинных пластов того, что образует характерность и лежит в основе традиции. Контуры же ее открывались уже современникам сначала как бы снаружи. При этом Пушкина не только постигали, восхищаясь; его уже при жизни "преодолевали". И как раз мотивы - открытые или скрытые - такого "преодоления", лозунги, под которыми оно происходило, могут помочь конкретнее, рельефнее представить себе чаемую характерность.
Так, споря друг с другом относительно оригинальности "Евгения Онегина" и его отношения к Байрону (на чем не можем останавливаться), аристократ Д. Веневитинов и плебей Н. Полевой по мере появления очередных глав пушкинского романа неизменно сходятся, соглашаются в признании "красоты выражения" (вообще того, что тогда обозначалось "красотами"), "прелести" и т.п. Сразу же возникает и оформляется как некая привычность понятие совершенства поэтического, что уже современники устанавливают как пушкинское.
Это правда, хотя лишь часть ее. И недовольство не медлит проявиться. Встречая выход за пределы "красот" в трижды прослушанном "Борисе", именно в его исторической мысли, Веневитинов чувствует отчуждение. А уже через 15 лет - этап по тем временам огромный - Е. Баратынский, хваливший Пушкина за легкость творить "шутя" "ветреником блестящим", находит с изумлением и чуть ли не досадой "силу и глубину" позднего Пушкина 8 .
В общем же знаменателе понимания современниками пушкинского начала и совершенства "красот" оказывается самая легкость сотворения красоты в эстетически простых формах вследствие единовременного усилия гения, а то, как обычно кажется, и вовсе без усилий. Правильно, как сказано, подчеркнутое и охотно принятое, это установление сделано уже давно. Так что потом, после анализа пушкинских бумаг установленная самодостаточность единовременного творческого усилия, мгновенных перерешений в полувнятных зачастую для нас черновиках, предстает устойчивостью исходных решений.
Содержательна именно самодостаточность каждого единичного решения, чуждость стремления к последующему пересмотру или углублению художественной мысли, ее словно бы непроизвольному или неуправляемому разрастанию, тем более обрастанию боковыми ответвлениями и т.п.. что стало потом, начиная с Гоголя, столь характерным для классиков нашей литературы. Конечно, утверждение простоты формы и легкости выражения (в том числе здесь и изображения, "пластики") может представиться отступлением от давно завоеванного, возвратом к первобытным представлениям о пушкинской индивидуальности, благо слова для обозначения какие-то безликие, стертые. Может быть, слова можно подыскать и посвежее, но смысл качества, утверждаемого в пушкинском "поэтическом хозяйстве", все- таки реально был увиден еще современниками.
Кажущаяся небогатость такого результата, - без натяжки мыслимое реальное основание, если его надо искать, пушкинского насмешливого правила: "поэзия должна быть глуповата" (13; 278-279). Истинно прекрасное предполагает отвращение от жеманства; потому ему и не чужда гладкая с "шероховатостями" (Белинский) поэзия Батюшкова, хотя крайняя узость жанрово- содержательного порядка обеспечивает ей - предшественнице поэзии Пушкина - некоторое тематическое единство и намекает на ту легкость сотворения красоты в простых формах вследствие единовременного усилия поэта, что сильно и навечно подтверждено именно Пушкиным.
Понимание собственно содержательной стороны пушкинской традиции необходимо и обязательно, но то особая и сложная тема специального исследования, к которому эта маленькая статья только призывает. А к сказанному можно присоединить эпизод, относящийся к судьбе пушкинского совершенства и его возможного воздействия.
Батюшков отключился в 1821 году, успев приветствовать только "Руслана". Жуковский же за полтора года до того признал себя "побежденным учителем". Но он после пушкинской "победы" прожил еще тридцать два года, пережив "победителя" на пятнадцать лет. Правда, занятый придворной службой и переводами, поэт творчески немножко потускнел, но, как известно, не одряхлел. И может возникнуть вопрос: а не пробовал ли хоть ненароком "учитель" стать "учеником"? Тем более что уникальная гениальность младшего друга была для него несомненно ясна еще в двадцатые годы.
Эволюция Жуковского, внешне очень плавная, пологая, обнаруживает и некоторую нервность и даже драматизм, и, как заметил лучший исследователь его поэтики А.Н. Веселовский, "нам важны именно эти мелкие черты, трепещущие жизнью" 9 . Наблюдение их изменений подталкивается к некоторым выводам самим Жуковским тем, что он, причем неоднократно, возвращается при переводах- переделках к старым сюжетам, пробуя новые решения. Так, если первоначально Бюргерова "Ленора" подвигла его на вольную переделку, что называется, "по мотивам" в облике баллады "Людмила" (1808), которую автор точно назвал "подражанием"; если позже он завершил "Светлану" - еще более вольное подражание, - то в 1831 г. он по всем правилам перевода воссоздал "Ленору" в объеме и восьмистишиях оригинала. Можно гадать, учитывал ли он при этом опыт тяжеловесной "Ольги" (переделка той же "Леноры" П. Катениным), но он явно учитывал новую, уже в основном пушкинскую культуру.
"Ленору" от "Людмилы" отделяет более двух десятилетий, и отличает первую от второй не только, понятно, большая близость к подлиннику, но и приметная обновленность культуры поэтической речи и изображения. В том, что хорей сменяется излюбленным Пушкиным ямбом, ничего пушкинского не усмотришь, хотя известная Жуковскому сравнительно недавно напечатанная баллада Пушкина "Жених" была выдержана в том же размере. Подобное может быть случайным совпадением. Показательнее иное. В "Людмиле" переход от богохульных сетований к полуночному явлению жениха представлен в тридцати стихах пространных описаний, чей образно-словесный строй к тому времени уже стал "фирменным знаком" поэтики "певца Светланы" и в чем пересоздавалось всего шестнадцать стихов оригинала; новый же перевод вполне умещается в его рамки. Главное - ушло описательное "изобилие", что современники молодого Жуковского "любили", но что, как напомнил Веселов- ский 10 , порицал еще давно старший соратник- карамзинист И. Дмитриев; ушло экстенсивное воссоздание сюжета, оно как бы сжалось, уступив интенсивному, словно на ходу сбрасывая образно-речевые излишества и очищая простоту значения слов, означающих предметы, свойства и действия.
Все подобное очевидно при бесхитростном сопоставлении соответствующих пространных фрагментов. И только отчасти все это можно объяснить стремлением к точности перевода: к точности - да, но только более общего порядка. Ведь с какой небывалой прежде отвагой поэт-ветеран твердит, повторяет на тесном пространстве одни и те же слова, достигая желанной энергичности:
"...Гремя, к крыльцу примчался;
Гремя, взбежал он на крыльцо..." (I; 336) 11 .
В "Людмиле" только "брякнуло кольцо", да и то "тихо"; а здесь прямо пиршество бряцания, торжество нечисти, спешащей скорее завладеть душой, отравленной святотатством. Способ достижения такой поэтической силы, такой динамики задан уже Пушкиным, - но опять же, оставаясь при несомненно именно Жуковским проявленном, мы остаемся "при подозрении", что "учитель" как-то подстраивался под достижения быстротекущей поэтической культуры, где им же признанный "победитель-ученик" выделяется главным.
В таком же свете для нашей задачи предстает и повторное переложение элегии Т. Грея, названной переводчиком в обоих случаях "Сельское кладбище". Специалисты-грееведы считают первый перевод точнейшим, но для нас важно не это, а другое. В 1839 г. Жуковский сочинил "второй перевод", совсем другой, в русских гекзаметрах, готовясь к подвигу воссоздания "Одиссеи". Тут поэт усовершенствовался без помех и соперников; если первый труд он посвятил Андрею Тургеневу, то второй - второму брату Александру, подчеркивая преемственность (I; 577). Сам второй перевод настолько обособлен в поэтической культуре конца 30-х гг., где уже и Лермонтов почти весь раскрылся, что его сопоставлять с пушкинской традицией без натяжки нельзя. Но более интересно, что в последнем авторском издании сочинений 1849 г., где отражена последняя воля поэта, Жуковский представил не второе переложение, а новую редакцию первого.
Здесь уже, понятно, не новое творческое задание, но только лишь усовершенствование старого, говоря по-современному, текста, - и это через почти полвека. Очищение элегии от стилевой (не только собственно стилистической) архаики - это след бега времени, в котором Пушкин не единственный законодатель. В обновленном первом переводе выдержан первоначальный шестистопный ямб (так называемый русский александрийский стих), к середине XIX века очень для поэта невыгодный. Но Жуковский нарочно его сохраняет, словно не желая искать для себя послаблений в соревновании с молодыми современниками: ведь к этому времени успели уйти, оставив свои достижения, и Баратынский, и Языков, и Лермонтов.
К чести ветерана надо сказать, что он не гонится за идейными приметами новизны и свое содержание претворяет без малейшей даже модернизации:
"А ты, почивших друг, певец уединенный,
И твой ударит час, последний, роковой;
И к гробу твоему, мечтой сопровожденный,
Чувствительный придет услышать
жребий твой".
(I; 16).
"Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют", - заметил Пушкин в конце жизни (12; 34). Стилевое осовременивание элегии безусловно свидетельствует о живом "существовании опытов" для Жуковского, пушкинских прежде всего.
Вообще пресловутый портрет, подаренный с великодушным и, видимо, полушутливым провозглашением капитуляции, в нашем восприятии привычно упрощает творческую связь, делает ее плоской: один учил, другой учился... Все, вероятно, сложнее.
Примечательно схождение очень разных людей (А. Тургенев и П. Вяземский в своей переписке, Ф. Вигель, Н. Полевой, Гоголь) в едином мнении об очевидной для всех склонности Жуковского отправляться, отталкиваться непременно от чужого, прежде бывшего вдохновения, от чьего-то уже эстетически воплощенного состояния, и органически обращать его в собственное состояние, - именно не подражать, не имитировать покорно, а с всегдашней готовностью сочувственно лично переживать в талантливом (это уже от Бога) собственном поэтическом воплощении. Ярко сказал об этом ярчайший из названных, он же как бы посторонний, не близкий жуковско-пушкинскому поэтическому миру: "...Личность каждого поэта удержана, негде было и высунуться самому переводчику, но..." - "каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность - это загадка, но она так и видится всем <...> Лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом- изобретателем, - лень выдумывать, а не недостаток творчества" 12 .
Если к проблеме "Жуковский - Пушкин" обратиться под таким углом зрения, то можно предположить (только все это требует скрупулезного обследования), что поздний Жуковский и от Пушкина отталкивался, творчески его (его достижения) претворяя, им вдохновляясь, как своими излюбленными немцами или англичанами, - хотя Пушкина, понятно, не переделывал.
Это, уверен, тема, стоящая внимания. С ней связан и эпизод, известный как царскосельское состязание летом 1831 года Пушкина и Жуковского в нарочито скором сочинении "народных" (простонародных) сказок. Гоголь восклицал по поводу результата: "...Чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт, и уже чисто русский. Ничего германского и прежнего" 13 . Инициатива всей затеи неизвестна, да это здесь и не существенно, хотя, по мнению всегда уверенного А. Веселовского, "пока пример Пушкина не побудил Жуковского к литературной обработке сказок, он интересовался ими, так сказать, поодаль" 14 . Но важен не итог типа: победа - поражение, а стилевая тенденция.
Эпоха Жуковского и Пушкина не разграничивала сферы неопределенно понимаемой народности и простонародности, - по крайней мере в этой области; Пушкин же, как замечено знатоками, был неразборчив в источниках: "Он не делал большого различия между подлинно-народным устным творчеством и книжной, псевдонародной и лубочной литературой. Он черпал в своих произведениях одинаково из того и другого источника" 15 . Но его сказки, ставшие классическими и с детства родными, заранее принимаются как куда более народные, чем сказки его "соперника". Новейший исследователь творчества Жуковского В.Н. Касаткина (Аношкина) уместно напоминает, что, хотя Белинской "упрекал" Пушкина-сказочника "в стилизации", "поэт не рядится в мужицкий кафтан", и что "Жуковский сблизился с Пушкиным в манере оказывания сказки , отличаясь от него в "сюжетоплетении" 16 . Продолжая суждение В.Н. Касаткиной, можно заметить, что "учитель" "сближается" с "учеником" не только в манере сотворения сказок, но и в некоторой мере - пусть небольшой -в стилевой культуре оформления поэтического образа. Думается, достаточно непредубежденным оком прочесть такие слова из "Спящей царевны":
"Повар спит перед огнем;
И огонь, объятый сном,
Не пылает, не горит;
Сонным пламенем стоит;
И не тронется над ним,
свившись клубом, сонный дым..." (I; 369) -
достаточно, чтобы признать похожее на Пушкина и уж точно не худшее по качеству. Но и в рамках характерно пушкинского стиля не вдруг найдешь такую экспрессию чистого, прозрачного просторечия и вместе с тем непогрешимой литературности:
"Сном пресекся разговор,
И в устах молчит с тех пор
Недоконченная речь;
Тот, вздремав, когда-то лечь
Собрался, но не успел:
Сон волшебный овладел
Прежде сна простого им;
И три века недвижим,
Не стоит он, не лежит,
И, упасть готовый, спит". (I; 370)
Конечно, затейливость оппозиции выделенных самим поэтом слов, немыслимая у подлинного народного сказочника и напоминающая об озорстве Жуковского - протоколиста "Арзамаса", дополнительно свидетельствует о рафинированности мысли сказателя - добродушного барина, о факте высокохудожественной стилизации. Легкость достижения красоты совершенства, о чем говорилось вначале, бесспорная в поэзии Пушкина, в том числе и в "прозаической" поэзии, в "Спящей царевне" Жуковского только оттого не бросается в глаза, что она не внедрялась в сознание уже многих поколений. Педагогике мешало не столько исключительное положение Пушкина, сколько отвращение от охранительно-православной идеологии Жуковского; а между тем, к слову, охранительно-консервативный момент присущ и сказкам Пушкина, что отмечалось (С.М. Бонди).
Но все подобное, тем более, если отходить от Жуковского вперед сквозь полтора века в попытках конкретного установления пушкинской традиции, требует непременного перехода в план более содержательный - наследование некоторых основ пушкинского миропонимания. В таком смысле наследников окажется не так уж много. Как раз великие в разной мере "унаследовали" самое величие, а характерность обнаружили собственную. При дальнейшем рассмотрении традиции оба плана подразумеваются в их конечном единстве, хотя будут встречаться явления преимущественно именно внешнего, "формального" порядка (совершенство искусства выражения и изображения). Ведь после Пушкина что ни имя, то светило; правильнее же - что ни имя, то проблема. И не должно смущаться, когда имена могут быть не из высшей лиги. Через все соблазны "натуральной школы" литературе, вышедшей во многом из "темного" Гоголя, еще долго хотелось и по сию пору хочется "светлого", - особенно во времена, к нему не располагающие, когда жажда красоты совершенства художественного создания оказывается если и не единственной, то главной или одной из главных целей самого этого создания.
--------------------------------------------------------------------------------
1 Григорьев Ап. Соч.-СПб., 1876. - Т. 1. - С. 238.
2 Тексты Пушкина приводятся по изд.: Пушкин. Полн. собр. соч.: В 16 т. - АН СССР, 1937 - 1949 (доп. т. - 1959. В скобках указываются том и страница).
3 Пушкин - родоначальник новой русской литературы: Сб. науч.-иссл. работ. - М.; Л., 1941. - С.436.
4 3ощенко Мих. 1935-1937. - Л., 1940. - С.119.
5 Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Стиль. Произведение. Литературное развитие. - М., 1965. - С. 67.
6 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. - М.; Л., 1963. - Т. 8. - С. 292.
7 Толстой А.К. Собр. соч.: В 4 т. - М., 1963. - Т. 1. - С. 662-665.
8 Баратынский Е.А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. - М., 1987.-С. 270.
9 Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения". - СПб., 1904. - С. V.
10 См.: там же. - С. 481.
11 Жуковский В.А. Полн. собр. соч.: В 3 т. - СПб., 1906. В дальнейшем указываются том и страница.
12 Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. - АН СССР, 1952. - Т. 8. - С. 377.
13 Там же. - 1940. - Т. 10. - С. 214.
14 Веселовский А.Н. В.А. Жуковский... - С. 509-510.
15 Бонди С.М. [Комментарий к "Русалке"] // Пушкин. Полн. собр. соч. - [Л.], АН СССР, [1935]. - Т. 7. - С. 623.
16 Касаткина В.Н. "Здесь сердцу будет приятно...": Поэзия В.А. Жуковского. - М., 1995. - С. 158, 159.
стр. 9