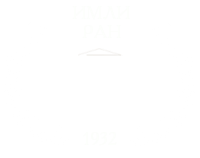специальность 10.01.03 – литература народов стран зарубежья
(литературы Ближнего и Дальнего Востока)
А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
Москва 2009
Работа выполнена на кафедре русской и зарубежной литературы
Института филологии Сахалинского государственного университета
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор
Садокова Анастасия Рюриковна
Официальные оппоненты:
член-корреспондент РАН, доктор исторических наук
Арутюнов Сергей Александрович
кандидат филологических наук, доцент
Коровина Светлана Геннадьевна
Ведущая организация – Дальневосточный государственный университет
Защита состоится « » апреля 2009 г. в 15 часов
на заседании диссертационного совета Д. 002.209.01 по филологическим наукам в Институте мировой литературы им. А.М.Горького РАН
(121069, Москва, ул. Поварская, 25а).
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН.
Автореферат разослан « » марта 2009 г.
Ученый секретарь
Диссертационного совета,
доктор филологических наук Т.В.Кудрявцева
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. В последние десятилетия во многих странах мира наблюдается взлет интереса к своим историческим корням, к традиционной культуре, к истокам национальной словесности. Это связано с общим подъемом этнического самосознания у многих народов, их желанием определить место своей культуры в мировой системе. А также - собрать и зафиксировать то ценное, что было создано веками в национальной фольклорной и мифологической традициях, постараться по-новому взглянуть на литературное наследие своего народа. Именно поэтому одной из актуальных проблем как японского, так и мирового современного литературоведения считается проблема изучения литературного и культурного наследия народов стран Востока, в частности стран Восточной Азии.
Интерес к этому вопросу определяется необходимостью адекватного понимания сложных внутрилитературных процессов, происходящих в этих странах, с целью более полного вовлечения их литературного материала в систему мирового сравнительно-исторического и сравнительно-типологического литературоведения. Такой подход будет способствовать более полному представлению о литературных процессах в историко-мировом масштабе.
В Японии, в стране, где всегда очень внимательно относились к своему историческому и культурному прошлому, проблеме сохранения традиций, в том числе и литературных, придается особое значение. При исследовании японской литературы особое внимание всегда уделялось изучению литературы древности и раннего средневековья, что, согласно японской историографии, соответствует эпохе Нара (VIII в.) и эпохе Хэйан (IX-XII вв.). Такой подход был обусловлен той огромной ролью, которую сыграли эти исторические периоды для всего процесса становления и развития японской классической литературы. При этом особое значение для развития литературы в названные периоды приобрели два фактора.
Во-первых, в этот период особую роль играла поэтическая традиция, во многом ориентированная на отображение мифопоэтического мира японской архаики. Фольклорная и ритуальная поэзия, видоизменившись, стала основой литературной поэзии, повлияла на облик всей позднейшей поэзии, задала ей основные эстетические и философские параметры. Во-вторых, японская поэтическая система еще на стадии мифопоэтического строя оказалась под влиянием более древней и богатой китайской культуры, поскольку именно с Китаем Япония в древности и в период раннего средневековья имела наиболее тесные политические, экономические и культурные контакты. Все это делает проблему инокультурных заимствований для японской литературы и культуры вообще чрезвычайно актуальной, а также ставит вопрос о культурной адаптации этих привнесенных извне явлений. Взаимовлияние двух этих факторов привели к созданию уникального явления, каким по праву считается японская классическая поэзия с ее сложной системой поэтических образов, полутонов и намеков.
Проблема текстуальных и инокультурных заимствований, равно как и вопрос их культурной адаптации, а также изучение самого процесса становления и развития новых явлений и образов в японской национальной литературе являются актуальными и для современного литературоведения. Почитание луны и звезд нашло свое яркое отражение в народной праздничной культуре всех народов дальневосточного историко-культурного региона, в народной поэзии китайцев, корейцев, японцев. Для японской же традиции заимствование этих образов имело особое значение, поскольку именно они стали определяющими при создании любовной поэзии – основного жанра японской лирики. Будучи заимствованными из Китая, образы луны и звезд сохранили свою древнюю мифологическую основу, но вместе с тем адаптировались, приспособились не только к обрядово-праздничной культуре японцев, но и стали неотъемлемой частью всей поэтической системы.
Более того, в своем развитии на японской почве они прошли сложный и длительный путь становления, в результате чего в классической японской литературе, по сути, была создана самостоятельная система использования образов луны и звезд. За названными образами был закреплен целый ряд метафорических и символических значений. Именно образы луны и звезд, использование которых имело в классической литературе, прежде всего, в поэзии чрезвычайно широкий диапазон, стали в большинстве случаев теми «кирпичиками», благодаря которым японской любовной поэзии и удавалось стать поэзией «полутона и намека», что является ее специфической особенностью.
История становления и развития образов луны и звезд в японской литературе дает поистине уникальный материал для исследования процесса формирования национальной японской литературы и становления системы ее художественной образности. Пример японской литературы в этом смысле весьма нагляден и по-своему уникален, так как дает возможность осмыслить основные формы заимствования и адаптации культурных явлений народами Восточной Азии. Очевидно, что такой подход к изучению японской литературы дает также важный материал для разработки многих теоретических вопросов современного литературоведения: проблем сравнительного изучения литератур, проблем развития поэтики и литературных языковых приемов, а также исследования исторических моделей взаимодействия народного творчества с письменной авторской литературой.
Методологической основой диссертации стала теория сравнительного изучения литературы, разработанная в трудах акад. Н.И.Конрада, акад.Б.Л.Рифтина, И.С.Лисевича, Б.Б.Парникеля, Н.И.Никулина, П.А.Гринцера. Метод системного анализа произведений классической литературы был разработан и широко применяется в отечественном литературоведении. Этим проблемам посвящены многочисленные работы специалистов по литературе Японии: А.Е.Глускиной, В.Н.Горегляда, И.А.Борониной, В.П.Мазурика, Т.И.Бреславец, Л.М.Ермаковой, Т.Л.Соколовой-Делюсиной, А.Р.Садоковой. Диссертационное исследование написано на основе системного анализа японской классической литературы с применением сравнительно-типологического и историко-литературного методов.
Цели и задачи диссертации. В данной диссертации предпринимается попытка проследить генезис и процесс трансформации наиболее известных и значимых для всей классической японской литературы поэтико-художественных образов, а именно образов луны и звезд. Отсюда и основные задачи, вставшие перед соискателем в ходе работы:
- определить основные фольклорно-мифологические и празднично-обрядовые источники появления образов луны и звезд в японской культуре и литературе, выявить заимствованные и национальные элементы в их формировании.
- проследить генезис и историю становления системы «сезонной» образности в древней японской поэзии и определить место поэтических образов луны и звезд в этой системе;
- на основе анализа произведений средневековой прозы и поэзии рассмотреть основные функции этих образов в средневековой литературе, проследить процесс трансформации образов луны и звезд на новом этапе их развития;
- определить значение образов небесных светил для процесса становления и развития художественной образности в японской классической литературе.
Научная новизна. В диссертации впервые в отечественном и зарубежном японоведении делается попытка рассмотреть поэтические образы луны и звезд как важную составляющую в процесса формирования системы художественной образности японской классической поэзии. Рассматривается генезис этих образов, прослеживается процесс их развития от роли мифолого-обрядовых «сезонных» символов в древней поэзии к символике «полутона» в авторской любовной поэзии средневековья. Впервые определяются функции образов луны и звезд в поэзии разных исторических периодов, прослеживается изменение их метафорического значения в контексте развития японской классической литературы. В научный обиход отечественного востоковедения вводятся образцы японской классической поэзии VIII-X веков, воспевающие луну и звезды, которые не были ранее предметом специального исследования и на русский язык не переводились.
Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть использованы при написании работ по истории японской классической литературы, равно как и обобщающих работ, посвященных развитию японской литературы и поэтики в целом, вопросам становления и развития средств языковой выразительности и системы художественной образности. Они могут служить фактическим материалом для сравнительного изучения системы художественной образности в других литературах региона и шире – в мировой литературе, а также использоваться при чтении курсов по литературам Востока и литературе Японии в востоковедческих ВУЗах.
Апробация работы. Выводы исследования были изложены в виде докладов на научной конференции преподавателей и аспирантов СахГУ (Южно-Сахалинск, 2006) и на научной конференции для исследователей в области филологии Института японской языка (Япония, г.Осака, 2007). Основные положения диссертации нашли свое отражение в ряде публикаций автора (см. список работ в конце автореферата). Текст диссертации обсуждался на заседании кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии Сахалинского государственного университета.
Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из Введения, трех глав, Заключения и Библиографического списка.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновываются актуальность исследования, формулируются его цели и задачи, объясняется научная новизна и практическая значимость работы, определяются ее методы и источники.
Глава первая - «Становление образа луны в древней японской поэзии» состоит из двух параграфов: «Основные принципы создания системы "сезонной образности" в древней японской поэзии» и «Образ луны в контексте системы художественной образности антологии «Манъёсю» (VIII в.)».
В главе отмечается, что в культуре всех народов мира луне издавна придавалось особое значение: веками складывалась система лунарных мифов, происходил процесс мифологизации луны и лунных циклов. Мифы были связаны, прежде всего, с солярными циклами, а луна и солнце соотносились с основными противопоставлениями, характерными для мифологической модели мира – например, со светом и тьмой, верхом и низом. В китайской мифологии это противопоставление выражалось как единение инь и ян, где солнце понималось как ян, а луна - как инь.
В представлении разных народов луна понималась как символ женского начала; она выступала в мифах в качестве женского персонажа, иногда второстепенного. Вероятно, именно с этим было связано и постепенное уменьшение роли лунарных мифов в более развитых обществах и мифологиях. Однако значение луны как мифологического символа, который широко использовался в гаданиях и магических обрядах, было и остается весьма заметным в народных обычаях и обрядах, в праздниках годового цикла. Не стала исключением и средневековая литература, например, литература народов Восточной Азии, в которой поэтический образ луны, взращенный на древних магических и обрядовых представлениях, занял достойное место, на многие века вперед определив художественный и поэтический настрой, тональность классической литературы.
Культ луны, который нашел свое яркое отражение не только в обрядово-праздничной культуре японцев, но и в их поэтическом творчестве, был заимствован из китайской традиции. Однако, японцы, сохранив ряд значимых элементов лунарного культа и главное – особое почитание этого светила, значительно переосмыслили и дополнили представления о луне как на сюжетном, так и на стилистическом уровнях. В результате сформировалось совершенно новое, оригинальное явление японской культуры, безусловно, уходящее своими корнями к китайской мифологии и обрядовой традиции, но совершенно очевидно ставшее достижением, прежде всего, японской культуры.
Подчеркивается, что для заимствования образов луны и звезд в японской традиции была подготовлена благоприятная почва. Как известно, отличительной чертой японской поэзии на протяжении всех веков ее развития было особое отношение к природе, через образы которой поэты передавали свои чувства и переживания. Представления о поэтической сезонности появились в японской поэзии еще во времена создания первой поэтической антологии «Манъёсю» (VIII в.). Именно в ней была разработана целая система сезонной образности, ставшая основой для создания поэтических творений в последующие века. Это было время, когда еще были очевидны связи народной и литературной поэтических традиций, а авторская поэзия черпала свои образы и настроения в народной лирике. Многие сезонные образы восходили к древним народным преставлениям о календаре, прежде всего, хозяйственном, связанном с земледельческим циклом. Конечно, ко времени создания «Манъёсю» уже многие народные образы были переосмыслены, однако, восприятие сезонных символов было принципиально иным, нежели позднее в эпоху Хэйан. Наряду с другими образами, заимствованными японцами из мира природы для создания системы «сезонной образности», луна как многофункциональный образ была достаточно широко вовлечена в эту систему. Интерес к этому образу восходил к древним мифологическим представлениям, восходящим к китайской традиции, а также к собственно японским хозяйственным обычаям и обрядам, в которых луне отводилась важная роль.
Образ луны занял свое достойное место в системе сезонной образности японцев уже в период расцвета древней поэзии. Например, в песнях «Манъёсю» в большом количестве использовались всевозможные сравнения, заимствованные из фольклорной традиции. Многие из этих сравнений были связаны с образами луны или месяца. В общем, в антологию «Манъёсю» было помещено более 170 песен, воспевающих луну или месяц. Именно поэтому антология может по праву считаться одним из тех памятников, в котором в древней японской поэзии наиболее полно и ярко запечатлелся образ луны. Так, в древней японской поэзии широкое распространение получили сравнения луны с бровью, луком, ладьей и даже ягодами тута. Все эти сравнения возникали по принципу зрительной ассоциации, внешнего сходства и были, по сути, очень простыми, хотя и создали в древней японской поэзии запоминающиеся художественные образы.
Большое число песен древнего памятника использовали прием метафорического сравнения луны с юношей или девушкой, под которыми могли подразумеваться или не подразумеваться возлюбленные. Большое значение для развития образа луны как поэтического символа любовной поэзии сыграла связь луны с одним из верховных богов японского синтоистского пантеона, с богом Цукиёми, образ которого не только запечатлелся в древней японской поэзии, но и послужил для создания многочисленных сравнений, метафор, аллегорий и других средств художественной выразительности. И это при том, что в самой японской мифологии эпизоды, связанные с деятельностью этого бога, не получили достаточного сюжетного развития.
Как показал анализ песен антологии «Манъёсю», в которых воспевалась луна, образ ночного светила был метафорой не только возлюбленного, юноши, но также широко использовался для обозначения девушки, далекой возлюбленной. При этом практически всегда луна, ее появление или ожидание воспринималось как синоним печали, грусти, невозможности увидеть свою любимую. В антологии «Манъёсю» луна, будучи метафорой девушки, возлюбленной, никогда не выступала как символ счастливой любви. С ней всегда были связаны такие понятия как «недосягаемость», «тоска», «печаль» и «разлука».
В древней японской поэзии образ луны был тесно связан с любовной тематикой стихотворений. Однако это проявилось не только в создании поэтических метафор юноши и девушки, разлученных возлюбленных; четко просматриваются и другие функции луны, что нашло свое отражение в создании определенного ряда символов. Так, можно говорить о существовании в антологии «Манъёсю» целого цикла песен (не выделенного специально составителями антологии, но существующего реально), в которых луна выступает в роли помощника влюбленных, так или иначе организуя их встречу. Например, луна может быть доброжелательным свидетелем свидания, а также может помочь возлюбленным найти дорогу друг к другу, освещая путь. Кроме того, большое количество песен обыгрывает образ всевозможных преград для появления луны или любования ею, в чем также может просматриваться намек на любовные отношения.
В качестве таких естественных природных преград могли выступать горы, туман, иней или облака. Их упоминание в песнях соседствовало с реальными природными зарисовками, что способствовало созданию в стихотворении как бы двух фонов – реального и иносказательного. Таким образом, стихотворение получало подтекст, до конца понятный лишь автору и адресату, поскольку его истинная ситуативная привязанность так и осталась неизвестной. Без этой ситуативной привязанности стихотворение приняло форму любовного послания, в котором было очевидно метафорическое использование образа луны как образа возлюбленной и образов гор, облаков, тумана, инея как синонимов нереализованных любовных надежд и ожиданий. Становление и развитие поэтического образа луны происходило по нескольким тематическим и стилистическим параметрам. В основном, он был задействован при формировании любовной поэзии, выполняя в ней разные функции – от метафоры юноши или девушки, до светила-свидетеля любовных отношений и иносказательного образа преграды.
В главе также подробно рассматриваются принципы использования образа луны в песнях, отражающих буддийские идеи бренности мира. Отмечается, что представления о луне как о символе вечности способствовали вовлечению этого образа в систему поэтических образов, связанных с буддийско-философской проблематикой. Эта тема была еще недостаточно разработана древней японской поэзией, однако, именно образ луны, наряду с образами цветов сливы, а также гор и морей, оказался наиболее подходящим для выработки первых поэтических концепций иллюзорности бытия и бренности земного существования.
Особое внимание уделяется анализу лексических единиц японского языка, которые традиционно использовались для обозначения разных фаз и «действий» луны в древней поэзии и культуре. Отмечается, что при всем многообразии метафор и других приемах художественной выразительности, характерных для создания поэтического образа луны, набор лексических средств был ограничен. Наибольшее распространения получили такие термины, как Цукими (月見), что значит Праздник любования луной, мэйгэцу (名月) – луна 15-ого дня 8-го месяца. Эта луна называлась также Госпожой луной 15-й ночи (Дзюгоя-о-цукисама 十五夜お月様, или просто Дзюгоя (十五夜), что понималось как «пятнадцатая ночь».
Что касается глаголов, которые характеризовали «действия» луны, то в основном использовались три таких глагола. Так, для обозначения «сияния» луны использовались два глагола – «хикару» ( 光る) в большом количестве значений - «сверкать, сиять, блестеть, светиться» и глагол «тэру, тэрасу» ( 照る) в аналогичных значениях – «сиять, светить, освещать». Благодаря этим глаголам и формам, образованных от них, в поэзии появились выражения типа 照る月 – «сияющая луна», 照る月夜 – «ночь сияющей луны», 天照る月 – «луна, сияющая на небе» и многие другие. Широко использовался и глагол-«антоним», передающий все оттенки «сокрытия луны». Это был глагол «какусу, какурэру» ( 隠る) в значении «прятать(ся), скрывать(ся)». Он употреблялся в разных сочетаниях со словами «ночь», «туман», «горы», являющимися показателями основных мест, куда в поэзии скрывается луна, например, 山に隠りてありけり – «сокрывшаяся в горах (луна)».
На примере стихотворений, воспевающих луну, в главе подробно рассматривается прием контаминации. Антология «Манъёсю» дает достаточно много примеров подобного рода заимствований. Наиболее типичными для нее заимствованиями могут считаться те, которые приводили к появлению общих зачинов, общих концовок, «общих мест», то есть к появлению различных вариантов песен. Такие варианты в японском литературоведении принято обозначать термином руйка, что буквально означает «сходные песни». В «Манъёсю» происходит своего рода смешение двух или трех разных произведений. Контаминации в «Манъёсю» встречаются в самых разных вариантах: в виде общих зачинов и общих концовок, а также практически в полной идентичности песен. Объясняется это самой структурой памятника и, главное, его авторским составом.
Подчеркивается, что древняя поэзия заложила основы для дальнейшего развития образа луны и остальных небесных светил, определив на века вперед тематический и стилистический круг их бытования в японской поэзии в целом.
Глава вторая - «Особенности развития образа луны в средневековой японской литературе» состоит из двух параграфов: «Поэтико-эстетические функции луны в японской прозе эпохи Хэйан (IX-XII вв.)» и «Трансформация художественных представлений о луне в средневековой японской поэзии».
В главе отмечается, что в эпоху Хэйан (IX-XII вв.) особую популярность приобрел обряд любования луной, и в скором времени праздник 8-го месяца встал в один ряд с другими широко распространенными в Японии в то время обрядами «любования». Их формирование и утверждение было связано с общей эстетической концепцией эпохи Хэйан, в которой большое внимание уделялось эстетике. Это был период, когда аристократы проводили дни в интеллектуальных забавах, слагая стихи и любуясь красотой меняющегося в зависимости от времени года окружающего мира. Среди эстетических идеалов эпохи Хэйан особое значение приобрел культ красоты. Луна, которая с давних пор была наделена в представлении японцев особой магической силой, вполне вписывалась в череду предметов и явлений, призванных реализовывать этот культ. В связи с этим описание и изображение красоты луны стало постоянным мотивом в произведениях разных жанров японского искусства эпохи Хэйан, и нашло яркое отражение в литературе этого периода.
Именно литература в наибольшей степени зафиксировала восхищенное отношение японцев к ночному светилу, желание описать и запомнить все нюансы его появления на небе: будь то лунная дорожка на глади озера, мягкий свет, окутывающий горы, или яркий свет осенней луны.
Особо подчеркивается, что в хэйанской литературе появилось два сюжетных пласта в описании луны. С одной стороны, луна воспринималась как предмет любования и восторга, место обитания фантастических и волшебных существ, наделялась чудесной силой, и, будучи сезонным символом японской классической поэзии, прочно вошла в категорию природных явлений, которые наиболее ярко могли выразить любовные чувства лирического героя, передать его печаль от расставания с возлюбленной.
В другой стороны, особенно в хэйанской прозе, по лунам было принято описывать сезонные праздники и особо значимые события в жизни японской аристократии того времени. С точки зрения подобных описаний хэйанская литература была еще достаточно близка к традиционному народному календарю, что и нашло свое отражение во многих прозаических произведениях эпохи Хэйан, в которых описания сезонных цветов, трав, а также праздников занимали весьма заметное место.
В главе указывается, что восприятие луны как поэтического образа, рождающего любовные ассоциации, было характерно, прежде всего, для японской поэтической традиции. Это принципиально отличало ее от прозы, где луна понималась в большей степени как сезонный показатель и являлась ориентиром при создании более или менее развернутых описаний природных особенностей, свойственных тому или иному лунному месяцу. Кроме того, образ луны также использовался для достоверного описания происходивших в конкретном лунном месяце календарных праздников или дворцовых церемоний, к этим праздникам приуроченных.
Однако и в этом случае были своего рода исключения. К таковым может быть отнесено первое прозаическое произведение японской литературы, написанное в жанре повести-моногатари (物語), которое позднее будет названо «прародительницей всех моногатари». Речь идет об известном произведении IX-X веков – повести «Такэтори-моногатари» («Повести о старике Такэтори»; 竹取物語 ). Спецификой этого произведения, помимо всех остальных его самобытных особенностей, следует считать также и то, что в центре повествования находится образ Лунной девы, сюжетно связанной и подчиняемой луне. Именно эта подчиненность, а, по сути, принадлежность, и выступает в роли сюжетообразующего фактора, определяя развитие действа и его основные коллизии.
Подробно рассматривается история возникновения и бытования сюжета «Повести о старике Такэтори», первая «публикация» варианта которого относится к VIII веку и связана с поэтической антологией «Манъёсю». Именно в этом памятнике в шестнадцатой книге был помещен поэтический цикл, состоящий из двенадцати песен. Его предваряло прозаические введение, дающее представление о поводе сложения приводимых далее песен. Сюжет этого введения был чрезвычайно далек от позднего сюжета «Повести о старике Такэтори», однако в нем впервые в японской литературе упоминалось имя Такэтори. Это предание и поэтический цикл, могут рассматриваться не только как прародители этого произведения, но и как показатель очевидной связи сюжета с темой луны, пока еще не проявившейся очевидно.
В главе подробно анализируется проблема авторства и структурного построения «Такэтори-моногатари», проводится анализ древних представлений японцев об архитектонике лунного мира, законах течения времени и взаимоотношений жителей «иных» миров с людьми. Особое внимание уделяется образу лунной девы – Кагуя-химэ, проводится мысль о том, что в «Повести о старике Такэтори» впервые в японской литературе был выведен идеальный, по представлениям японцев, женский характер. Таким образом, «лунная» тематика в немалой степени способствовала созданию первого идеального женского образа в японской литературе, что дает возможность рассматривать произведение «Такэтори-моногатари» как начальный, предварительный этап формирования «литературы женского потока» в японской повествовательной традиции.
Большое место в главе отводится анализу сюжетных и поэтико-художественных изменений, произошедших при создании образа луны в поэзии эпохи Хэйан. Отмечается, что хотя этому образу по-прежнему придавалось большое значение, по сравнению с его функциональной направленностью в поэзии эпохи Нара, теперь налицо были значительные изменения, продиктованные общей спецификой поэзии этого периода. Во-первых, определенным изменениям подвергся тематический круг стихов, в которых поэты стали использовать образ луны. У них не было больше интереса к сравнениям сезонных символов с явлениями природы и этапами хозяйственной деятельности, с героями древней мифологии, с народной религиозной дидактикой. А если верность этим темам и сохранялась, то сам подход был уже другим. Во-вторых, все внимание хэйанских поэтов было сконцентрировано на любовной лирике, для чего многие древние образы были переосмыслены. Не стал исключением и образ луны, который и в древности использовался в любовной поэзии. Однако теперь его связь с любовной лирикой стала определяющей и даже можно сказать – единственной.
Как следствие этого, значительно расширился диапазон использования образа луны в любовных стихотворениях, в личной переписке, равно как и стало больше литературных памятников, анализ которых может дать более или менее полную картину функционирования этого образа в средневековой японской поэзии. Произведения, в которых использовался образ луны, относились, как правило, к так называемым «сложным» стихотворениям. Это были стихи, построенные не только на игре слов, но и на передаче тайного смысла, часто понятного только отправителю и адресату. Появление такого стиля также было одной из отличительных черт японской поэзии эпохи Хэйан. Поэтическим мастерством считалось умение так подобрать слова и образы, чтобы они представляли собой своеобразные художественно-поэтические ребусы, над разгадкой которых, а точнее – над постижением их глубокого смысла получатель должен был задуматься и, обладая сам поэтическим даром, оценить талант автора.
Большое число примеров стихотворений о луне, дают, например, такие произведениях жанра ута-моногатари(歌物語) как «Исэ-моногатари»(伊勢物語) и «Ямато-моногатари (大和物語), а также в «Дневник» Идзуми Сикибу (和泉式部日記) и ее личная переписка с принцем Ацумити. Именно в этих произведениях можно обнаружить многие варианты использования образа луны, характерные для средневековой японской поэзии, среди которых следует отметить следующие: 1. луна, скрывающаяся за горами; 2. луна, увиденная из заброшенного жилища; 3. луна, проплывающая перед домом, но не заглядывающая в дом; 4. предрассветная луна, которая вот-вот уйдет с небосклона.
Каждый из этих образов нес важную смысловую и ассоциативную нагрузку, однако, все они так или иначе передавали настроение легкой грусти и любовного разочарования. Так, появление образа луны, которая скрывается за горой, должно было рождать в душе томительную печаль, подчеркнуть невозможность нынешней ночью увидеться с возлюбленным, который, подобно этой луне, как бы исчезал с небосклона.
Весьма распространенным был и образ луны, которую поэт видит из заброшенного дома. В таких случаях в поэзии почти всегда использовалось сочетание «арэтару ядо» (荒れたる宿), что буквально означало «пустое, заброшенное жилище» и понималось как синоним женского одиночества. Стихотворения, содержащие это выражение, практически однозначно воспринимались как жалоба на невнимание со стороны возлюбленного, своего рода «тихий» укор. К образу луны, на которую поэт (поэтесса) смотрит из заброшенного дома и который является поэтическим синонимом одинокой (брошенной, забытой) женщины, близок по своей художественной и стилистической направленности и образ луны, проплывающей около дома, но не заглядывающей в дом. В средневековой японской поэзии он, как правило, появлялся, когда женщина хотела пожаловаться, что возлюбленный давно не посещает ее, а лишь «проплывает как луна» мимо ее дома.
Однако у этого образа был и еще один, более сложный контекст. Дело в том, что в поэзии зачастую рядом с выражением «луна, которая движется по небу» («сора ику цуки»; 空行く月) появляется слово «облачная (заоблачная) обитель, облачный (заоблачный) чертог» («кумои»; 雲居), что придает стихотворению несколько иной смысл. Известно, что под «облачной обителью» в поэтической иносказательной форме понимался императорский дворец, поэтому упоминание этого слова в стихах однозначно указывало на высокий придворный чин, на «непростое» положение в императорском дворце кавалера, к которому дама обращала свои жалобы. При таком понимании контекста стихотворения ясным становится и другое значение выражения «луна, которая движется по небу»: оно выступает в роли скрытого сравнения небесного светила и кавалера знатного происхождения. Вариантом образа луны, проплывающей мимо дома, но не заглядывающей в окно, может служить и образ луны, не освещающей дом. В таком случае образ темноты связан с образом одинокой женщины, покинутой возлюбленной.
Особой популярностью в японской средневековой любовной лирике пользовался и образ предрассветной луны. Его частое использование было связано с особыми правилами поведения и приличия, принятыми в хэйанском обществе в отношениях между тайными возлюбленными.
Перечисленными вариантами использования образа луны хэйанская поэзия не ограничивалась. В стихотворениях часто встречалось сочетание, которое несколько условно можно перевести как «смотреть на луну». Условность этого перевода продиктована тем, что в японских текстах, в силу специфики построения японского стиха и строгой регламентации количества строк, сочетание иероглифов «луна» и «смотреть» практически никогда не подавались как правильное грамматическое словосочетание, управляемое винительным падежом. Из-за такого (естественного для японской поэзии) подхода это выражение могло интерпретироваться и как «ты смотришь на луну», и как «мы вместе смотрим на луну» и т.д. Со временем в японской поэзии «смотрению на луну» стала приписываться еще одна поэтико-любовная функция – соединительная. Такое восприятие луны восходило к традиции совместного, коллективного любования луной. Образ одновременного «смотрения на луну» в японской любовной поэзии играл важную художественную роль, однако, такая «лунная лирика одиночества» открывала также и широкие возможности для поэтических вариаций.
Как видно, образ луны чрезвычайно широко и многогранно использовался в любовной японской поэзии, передавая практически все оттенки любовные переживаний героев. Однако образ луны имел также и целый набор функций, напрямую не связанных с любовной тематикой, но важных для понимания своего рода «всеобщности» этого образа для средневековой японской поэзии.
Среди наиболее четко оформившихся функций луны «нелюбовного» характера, прежде всего, следует обратить внимание на две. Речь идет о луне как символе увядания, старости со всевозможными вариациями на эту тему, а также о луне как предмете развлечения. Как показал анализ поэтических текстов эпохи Хэйан, диапазон использования образа луны как символа старения или потери был достаточно широк и служил для реализации как идей быстротечности, недолговечности земного бытия, так и идей вечной памяти об ушедших возлюбленных. При этом сравнения любовной связи с то появляющейся, то исчезающей луной вполне вписывалось в эстетические представления хэйанских аристократов и образ «непостоянной» луны нередко использовался для намека на разрыв любовных отношений. Взгляд на луну рождал у хэйанских поэтов также и воспоминания об умерших возлюбленных: иногда внимание привлекал бледный цвет луны, ее холодная красота, а иногда – цикличность ее появления на небосклоне, которой противопоставлялась невозможность этой же цикличности, своего рода, возрождения человеческой жизни.
Однако было бы неверно утверждать, что образ луны возникал в японской поэзии исключительно как играющий чрезвычайно важную роль или соотносимый с какими-либо значимыми событиями. Как и в древней японской поэзии, в лирике эпохи Хэйан было создано немало стихотворений, вероятно, сложенных как поэтические экспромты развлекательного характера. Многие из них сочинялись на поэтических турнирах, приуроченных к времени любовании луной.
Особое значение в классической поэзии придавалось также и конкретным лунным месяцам японского календаря. Наибольшего внимания со стороны хэйанской поэзии удостоилась так называемая Долгая луна, то есть луна девятого лунного месяца. Согласно японским народным представлениям, она обладала двумя важными свойствами: считалась очень красивой и яркой, и выполняла, таким образом, важные для хэйанской культуры эстетические функции, а также обладала особой жизненной энергией, имела целебные свойства и могла способствовать процветанию и долгой жизни. Последнее напрямую связывалось с особым днем, который приходился на девятое число девятого месяца и был известен как праздник хризантем. Особая «эстетизация» хризантем, которые, по представлениям японцев, напоминали небесные светила, чаще всего полную луну и звезды, метафорой которых они и стали в классической японской поэзии, привели к ярко выраженной «эстетизации» самой «долгой луны» то есть девятого лунного месяца в японской любовной лирике.
Глава третья - «Тема "встречи звезд" в японской классической литературе и эстетические воззрения японцев» включает два параграфа: «Миф о любви двух звезд в фольклорной традиции и обрядности японцев» и «Особенности отражения образов "звездного" мифа в древней и средневековой японской поэзии».
В главе указывается, что среди календарных праздников, нашедших свое отражение в произведениях японской классической литературы, особое место издавна принадлежало празднику Танабата (七夕), традиционно отмечавшемуся в 7-ой день 7-ого лунного месяца. Мифологическое обрамление праздника составлял миф о двух небесных влюбленных – Ткачихе и Волопасе, которые отождествлялись с двумя звездами северного неба - Вегой (в созвездии Лира) и Альтаиром (в созвездии Орла). Осенью эти звезды, которые находятся по разные стороны Млечного Пути, сближаются в северной части небосклона, что для китайцев всегда символизировало «встречу» небесных влюбленных.
Как гласила самая распространенная версия мифа, Ткачиха была дочерью Небесного правителя. Целыми днями она только и делала, что ткала «небесное покрывало». Отцу сталь жаль ее, и он выдал Ткачиху замуж за Волопаса, который жил на другой стороне Небесной реки. Однако с тех пор Ткачиха перестала работать. И тогда рассерженный Небесный правитель послал сороку сказать, что он разрешает супругам встречаться только один раз в семь дней. Сорока же пока долетела до Ткачихи, забыла наказ Небесного правителя и назвала первое, что пришло ей в голову: 7-ой день 7-го месяца. С тех пор разлученные супруги весь год ждут того одного-единственного дня в году, когда им позволено видеться, и тоскуют на разных берегах Небесной реки (Млечного пути). В ночь на 7-ое число 7-го месяца множество сорок слетается к Небесной реке, и в назначенное время они строят живой мост, по которому Волопас идет на свидание к Ткачихе.
Интерес к китайскому мифу в странах Восточной Азии выразился в том, что в день встречи звезд, в 7-ой день 7-го месяца, стали устраиваться пышные празднества, охватывавшие все слои общества. Во всех странах Восточной Азии этот день почитается днем счастья и семейного благополучия. Было принято обращаться к богам с просьбами ниспослать здоровье и удачу и отвести от семьи напасти и невзгоды. Широкую популярность этот праздник обрел и в Японии, где он был известен еще в эпоху Нара (VIII в.) и впервые отмечался в 755 г. при дворе императрицы Кокэн (750-758; 765-770). В эпоху Эдо (1603-1868) его включили в госэкку (語節句 ) - пять основных японских праздников.
Отмечается, что упоминания праздника Танабата встречалось практически во всех произведениях японской средневековой литературы, что свидетельствует об огромной популярности и самого мифа и его героев. При этом обращает на себя внимание весьма интересный факт: в классической японской прозе, в отличие от поэзии, время проведения праздника Танабата описывалось несколько специфически. В поэтических памятниках седьмой лунный месяц почти автоматически ассоциировался исключительно с самим праздником Танабата, и потому в поэзии рождались яркие и самобытные образы Волопаса, Ткачихи, Млечного пути. В прозаических же произведениях обнаруживаются иные описания седьмого месяца. И главное в большинстве из них – это лишь констатация холодной, промозглой погоды. Поэзия совершенно иначе подходила к упоминанию праздника Танабата. При этом самое значительное место при упоминании праздника и мифа занимали не главные герои мифа, а разлучающий возлюбленных Млечный путь («Небесная река»). Особое место японская литература уделяла образу Ткачихи, который получил гораздо более яркое художественное (прежде всего, поэтическое) воплощение, чем образ Волопаса. При этом в небольшом количестве, но в литературе все же присутствовал образ Волопаса, с которым, как правило, поэты ассоциировали самих себя, слагая стихи о своей несчастной, неразделенной любви. Кроме того, японская литература сохранила, если не описание праздника или прямое переложение мифа, то называние, как отдельных атрибутов праздника, так и краткую передачу основной коллизии мифа.
В главе подчеркивается, что в истории японской литературы были поэты, творчество которых во многом было связано именно с праздником Танабата. И здесь следует назвать одного из самых известных поэтов древности, поэта VIII века Яманоуэ-но Окура. В работе подробно рассматривается жизненный путь и творчество поэта, анализируется цикл его стихотворений, посвященных празднику Танабата.
Большую роль в утверждении образов праздника Танабата в японской поэзии сыграли многочисленные поэтические турниры утаавасэ, во многом благодаря которым эти образы стали восприниматься как устойчивые сезонные символы осени. Однако будучи общепризнанным символом осени, образы праздника Танабата могли появляться и в песнях других сезонов, например, в песнях зимнего цикла, что, вероятно, может свидетельствовать об имевших место изменениях погоды в какой-либо конкретный год, например, резкое похолодание осенью в год проведения турнира. В таком случае праздник Танабата мог получить ассоциативную связь с несвойственным ему сезоном, что, в свою очередь, рождало совершенно новые образы. Например, появился образ «зимней Танабата», благодаря которому известные составляющие этого мифа и праздника заиграли новыми красками, будучи вовлеченными в совершенно новый образно-ассоциативный ряд. Так, стал широко использоваться образ замерзшей реки как символа с одной стороны, замирания природы, а с другой – прекращения любовных отношений, которые тоже как будто замерзли. При этом на первый план выходили картины зимы, грустного зимнего пейзажа.
Иногда в любовных стихах предлагались и более сложные образы, рожденные из непосредственных наблюдений за состоянием природы. Например, Небесной реке – Млечному пути приписываются свойства «земных» рек. Поэтический образ замерзшей горной реки – это образ горестного расставания, столь глубокого любовного разрыва, при котором замерзает и горная река, и Млечный путь. Японцы с давних пор замечали, что зимой Млечный путь не виден, это дало возможность для создания ставшей со временем классической для японской поэзии метафоры - «Река небес замерзла».
Отмечается, что к IX-X векам образ Млечного пути (Небесной реки) стал настолько популярен, что приобрел черты некой «всеобщности» и возникал в сознании хэйанских поэтов и слушателей их стихов практически одновременно с употреблением таких слов, как «вода», «река», «ладья», «брызги» и другие. Эти слова в свою очередь становились поэтическими ассоциациями слов «слезы», «разлука», «ожидание», что заметно расширяло ассоциативное поле «Небесной реки». Известны случаи, когда на расширение такого ассоциативного ряда требовалось значительное время и труд не одного поэта. Прекрасной иллюстрацией сказанного может служить образ Небесной реки, появившейся первоначально в поэтической антологии «Кокинсю» (905 г.), а затем получившей развитие в произведении жанра ута-моногатари «Исэ-моногатари».
Примечательно, что в классической японской литературе образ Небесной реки рождал и образ переправы, которая ассоциировалась с мостом. Среди поэтических способов соединения разлученных супругов, в работе выделяются два: некая небесная ладья, на которой Волопас переплывает бурную Небесную реку и Сорочий мост, по которому он идет навстречу своей возлюбленной. Довольно часто встречалось в литературе и упоминание Сорочьего моста (Касасаги-но хаси). В странах Восточной Азии, в том числе и в Японии, где считалось, что именно сороки были виноваты в несчастии супругов, так как именно они неверно передали приказ Небесного правителя, особо подчеркивалась роль птиц и в соединении Волопаса и Ткачихи.
Однако образ «Небесной реки» не воспринимался исключительно как «мост» для осуществления любовной связи. Гораздо чаще встречалось другое восприятие этого образа: Млечный путь, «Небесная река» стала иносказательным символом любой преграды, материализованной или моральной, стоящей на пути соединения влюбленных. Такой преградой могло стать большое расстояние, недовольство родителей, а также даже самые простые ширмы и перегородки, которые как бы не давали возлюбленным соединиться.
Заметное место среди стихов, воспевающих Танабата, занимали песни о Ткачихе, которая считалась главной героиней праздника. В представлении японцев именно Ткачиха оказалась в большей степени «жертвой» случившегося, и потому ей было более тоскливо и одиноко. Кроме того, уже изначально образ Ткачихи оказался созвучен мыслям и настроением множества хэйанских красавиц, которые при каждом удобном случае начинали сравнивать себя с Ткачихой, создавая и вокруг себя образ нежной, печальной супруги, в слезах ожидающей своего Волопаса. Притягательность образа Ткачихи для хэйанских дам была очевидна. И одна из причин заключалась в том, что «любовная печаль», как и все другие проявления «печали» были обязательным элементом японской хэйанской поэзии, которую часто вообще называют «поэзией разлуки». «Красота страдания» в тот период в поэзии ценилась гораздо больше, чем «красота счастья». И история несчастной звезды Ткачихи, вечно тоскующей и вечно ожидающей своего мимолетного счастья, соответствовала образу мысли и образу жизни хэйанских аристократок.
Понятно, что реальное положение женщин, как в семейном быту, так и на социальном уровне, и ее роль в жизни японского аристократического общества не могли не найти своего отражения в японской поэзии. Ведь поэзия в тот период понималась не только как способ художественного выражения чувств и эмоций, а, прежде всего, как форма межличностного общения, своего рода «бытовой» разговор, так или иначе касающийся множества достаточно обыденных эмоций, но облаченный при этом в высокую художественно-поэтическую форму. Именно поэзия является своего рода источником для понимания стиля жизни женщин хэйанской эпохи, когда ее уделом зачастую были лишь ожидание и тоска.
В целом, в главе отмечается, что сюжет и система персонажей древнего китайского мифа о разлученных звездах-супругах нашла в японской фольклорной и обрядовой традиции благодатную почву, оказалась созвучной мыслям и чаяниям японцев, прежде всего, японских женщин, которые увидели много общего между своими собственными чувствами и жизнью и судьбой звезды Ткачихи. Проникновение образов, связанных с праздником Танабата, в японскую литературу, прежде всего, в поэзию, было вполне закономерным явлением. Будучи поэзией разлуки и печали, японская лирика была открыта новым темам и сюжетам, содержащим некий аспект грусти. Тем более что история о любви двух звезд была сюжетна, что давало возможность для создания огромного числа поэтических вариаций, иносказаний, сравнений и метафор.
Однако, при всем огромном влиянии китайской традиции, японская поэзия заметно адаптировала предложенную трактовку древнего мифа. По-своему «прочитала» его, сделав основной акцент на двух образах: Млечного пути – метафоре любой преграды между возлюбленными и печальной судьбы Ткачихи, образ которой мог получать (в зависимости от настроения поэта и его личных переживаний) все новые интерпретации. Особое внимание со стороны хэйанских поэтов (и поэтесс) к образу Ткачихи в немалой степени способствовало тому, что в японской литературе стал проявляться определенный интерес к женским образам. Это, в свою очередь, привело в дальнейшем к созданию уникального явления японской классической литературы – «литературе женского потока», вершине литературного творчества эпохи Хэйан.
В Заключении формулируются основные выводы диссертации. Отмечается, что формирование системы художественной образности японской поэзии относилось к древнему этапу ее развития, к периоду Нара, и нашло свое воплощение в первой японской поэтической антологии «Манъёсю» (VIII в.). Антология явила собой пример единства фольклорной и авторской поэзии. Именно поэтому в стихах этого памятника сохранились древние народные представления о «сезонности» и «календарности» как неотъемлемой части народной песенной культуры. Получила развитие и так называемая система «сезонной образности», смысл которой заключался в создании целого ряда приуроченных к определенному времени года поэтических образов-символов, являвшихся наиболее характерными именно для данного календарного сезона. Благодаря появлению этих образов короткое японское стихотворение наполнилось особой смысловой глубиной, получило возможность с помощью намеков передавать все нюансы человеческих чувств и эмоций. Это было чрезвычайно важно для японской поэзии, потому что в ее основе изначально лежала любовная тематика.
Сезонные образы-символы заимствовались поэтами, вслед за народной поэзией, из мира природы, а также из обрядовой практики, причем не только собственно японской, но и китайской. Некоторые из этих образов-символов так и остались характерными исключительно для древней поэзии, другие же, наполнившись новым смыслом, продолжали бытовать в авторской поэзии последующих эпох и играть важную поэтико-стилистическую роль. Последнее в полной мере относится к образам луны и звезд в японской классической литературе, прежде всего, в поэзии. Наряду с другими образами, заимствованными японцами из мира природы для создания системы «сезонной образности», луна и звезды как многофункциональные образы были достаточно широко вовлечены в эту систему. Столь широкое распространение образов луны и звезд было связано с влиянием древних китайских мифологических преставлений, а также с собственно японскими хозяйственными обычаями и обрядами, в которых эти светила играли важную роль.
Однако романтическая основа китайских мифологических представлений о луне и звездах, а именно, повествования об «обитаемости» луны, о прекрасных девах-феях, об эликсире бессмертия, о печальной судьбе разлученных звездных супругах – Волопасе и Ткачихе заставили японцев по-новому взглянуть на эти, с их точки зрения, «хозяйственные» образы. В результате образы луны и звезд не только проникли в японскую поэзию, но и стали со временем определяющими. Вокруг них сформировалась целая метафорическая система, предполагающая большое число поэтических функций, которые выполняли эти образы.
На первом этапе, что можно проследить по текстам антологии «Манъёсю», становление и развитие поэтического образа луны происходило по нескольким тематическим и стилистическим параметрам. В основном, он был задействован при формировании любовной поэзии, выполняя в ней разные функции – от метафоры юноши или девушки, до светила-свидетеля любовных отношений и иносказательного образа преграды. Однако при этом образ луны, хоть и восходил к народной традиции, соседствуя с образами и сюжетами японской синтоистской мифологии, достаточно часто встречался и в философско-буддийской поэзии.
Заметные изменения произошли в восприятии образа луны в период Хэйан, что наглядно показывает функционирование этих образов в таких произведениях X века, как «Повесть об Исэ», «Повесть о Ямато», «Дневник Идзуми Сикибу» и других. Японская поэзия о луне практически утратила связь со своей фольклорной первоосновой, с календарными сезонами и хозяйственной деятельностью. Для нее перестали быть характерными сравнения с образами из японской мифологии, потерялся и некий дидактический настрой. И если в эпоху Нара связь луны и любовной тематики рассматривалась в поэзии как одно из проявлений символики луны, то уже в эпоху Хэйан образ луны стал определяющим для всей любовной лирики. Это привело к созданию в поэзии целой системы функций луны, разветвленной иносказательной системы, которая в определенной степени использовала художественные приемы (сравнения, метафоры, иносказания), характерные для народной и древней авторской поэзии, но значительно усложнила их, наполнив стихи замысловатой игрой слов.
При этом особое внимание хэйанские поэты стали уделять любовной тематике и широко использовать для передачи своих чувств и настроений именно образ луны, который стал выполнять целый набор новых для него функций. Так, например, для передачи разных оттенков настроений стали разделяться образы предрассветной луны, луны, увиденной из заброшенного дома, луны, проплывающей мимо дома и т.д. Возникли и такие разновидности «лунных» стихов как стихотворение-риторический вопрос и стихотворение-воспоминание, которые были способны передавать самые тонкие нюансы любовных отношений.
При этом в эпоху Хэйан образ луны в произведениях японского искусства, и, прежде всего, в литературе оставался одним из основных сезонных и эстетических символов. Однако по сравнению с эпохой Нара значительно расширились его поэтико-художественные функции, что выразилось в появлении образа лунной девы как главной героини первого значительного прозаического произведения японской литературы - «Повести о старике Такэтори», а также в формировании специфической «лунной» поэтической любовной системы. «Лунная» тематика в немалой степени способствовала созданию первого идеального женского образа в японской литературе, что дает возможность рассматривать произведение «Такэтори-моногатари» как начальный, предварительный этап формирования «литературы женского потока» в японской повествовательной традиции. По сути, на создание первого образа идеальной женщины, идеальной возлюбленной был направлен и переосмысленный и опоэтизированный миф о звезде-Ткачихе, грустный образ которой оказался созвучным японской поэзии «печали и разлуки».
Очевидно, что в японской культуре на протяжении веков ее развития была создана целая система использования образов луны и звезд в произведениях классической литературы. В своем развитии и функциональном назначении эти образы прошли долгий и сложный путь – от хозяйственно-сезонных показателей до глубоких лирических символов. Эти образы проникли во все жанры японской поэзии, закрепляя за собой устойчивые метафоры и символику. Более того, они, несомненно, способствовали развитию японской национальной прозы, потому что именно благодаря этим образам в японской литературе древности и раннего средневековья были созданы весьма примечательные женские характеры, определены основные параметры представлений о женском идеале, что оказало очевидное влияние на формирование более поздней «женской» литературы.
При этом надо отметить, что образы луны и звезд, хоть и могут рассматриваться как определяющие, сыгравшие важную роль в формировании и развитии системы художественной образности японского стиха и литературы вообще, не являются единственно значимыми образами. Для японской культуры и литературы характерна верность традициям, и потому для понимания многих реалий современного быта и явлений современной литературы необходимо более полное исследование многочисленных художественных образов, унаследованных от японской классики.
Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:
1. Китайский миф о любви двух звезд в японской средневековой
культуре // «Обсерватория культуры», 2008. № 6. С. 109-113.
2. Раннехэйанская литература: жанр «цукури-моногатари» // Материалы научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников СахГУ: сборник научных статей. – Южно-Сахалинск, 2006. С.232-234.
3. Образ Кагуя-химэ в «Повести о старике Такэтори» // Материалы научной конференции для исследователей в области японской филологии: сборник статей. – Осака, 2006. С. 31-32. (на японском языке).
4. Генезис «Повести о старике Такэтори»: влияние инокультурных традиций // Материалы итоговой научной конференции для исследователей: сборник статей. – Осака, 2007. С. 95-99. (на японском языке).
5. Поэтический образ Млечного Пути в классической японской поэзии // Состояние и перспективы лингвистического образования современной России. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. – Ульяновск, 2008. С. 221-226.
6. Японский праздник звезд Танабата как пример культурной адаптации (на примере классической японской поэзии) // Языковые и культурные контакты различных народов: сборник статей Международной научно-методической конференции. – Пенза, 2008. С. 204-206.
7. К вопросу об истоках образов лунных дев и старика Такэтори в японской литературной традиции // Восточные языки и культуры: Материалы II Международной научной конференции. - Москва, 2008. С. 218-222.