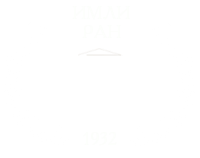Специальность 10.01.03 — литература народов стран зарубежья
Автореферат
на соискание ученой степени доктора
филологических наук
Москва 2013
Работа выполнена в Отделе народов литератур Европы и Америки новейшего времени
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН
Официальные оппоненты
Наталия Тиграновна
Пахсарьян,
доктор филологических наук, профессор кафедры истории зарубежной литературы МГУ, ведущий научный сотрудник Отдела литературоведения ИНИОН РАН
Галина Викторовна
Якушева,
доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (кафедра мировой литературы) и Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина
Татьяна Николаевна
Красавченко,
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН
Ведущая организация
Российский Университет дружбы народов,
кафедра теории и истории культуры
Защита состоится « 19 » ноября 2013 года в 15 часов на заседании Диссертационного совета Д 002.209.01 по филологическим наукам в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН, по адресу: 121069, Москва, ул. Поварская, 25а.
Автореферат опубликован на сайте ВАК 22.05.2013г.
Адрес объявления на сайте ВАК: http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/121357
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.
Автореферат разослан «____»____________2013 года.
Ученый секретарь
Диссертационного совета
доктор филологических наук Т. В. Кудрявцева
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Диссертация посвящена выявлению основных закономерностей структуры и эволюции литературы авангарда как части общей системы культуры. Под авангардом здесь принципиально понимается совокупность художественно-идеологических процессов первой трети ХХ века – т.н. исторический авангард. Этот феномен трактован в диссертации как цельное явление, что соответствует глубинной ориентации сознания начала ХХ века на некую интегральную целостность форм бытия. Поэтому автор поставил своей целью исследовать максимально широкий круг явлений культуры первой трети ХХ в. Определение специфики авангарда как смыслообразующей системы, сочетающей в едином семантическом поле разнопорядковые культурные ряды, и является целью данной работы.
Потребность в концептуализации литературы эпохи авангарда как системной целостности уже не раз отмечалась и в отечественной науке, и в зарубежных исследованиях. Данная работа отнюдь не претендует на всесторонний охват манифестаций авангарда, ее цель в другом – выявить их внутреннюю системную соотносимость. Поэтому основная задача труда – исследование не отдельных поэтик, художественных систем и направлений, а рассмотрение их во взаимосвязи, как определенного и целостного идейно-художественного феномена.
Актуальность диссертации обусловлена не только исполняющимся столетним юбилеем мирового авангарда, но в первую очередь тем, что для современной гуманитарной мысли чрезвычайно важно обращение к истокам культуры ХХ в., проясняющим более поздние, в том числе и современные процессы мировой культуры, литературы и искусства. Она продиктована необходимостью найти новые методологические подходы в условиях эпистемологического кризиса и постмодернистского синдрома. Автор полагает, что авангард, как объемная структура, включающая в себя разные сферы и аспекты общественного, художественного сознания и социальной практики, обладает некоторой общей системной взаимосвязанностью его разноуровневых проявлений, которые в совокупности составляют культурный текст эпохи. Именно поэтому поэтика авангарда представляет собой системную целостность, осознававшуюся в этом качестве и самими носителями авангардного сознания. Этот полиморфный феномен образует единую картину мира, имеющую некую общую эпистемологическую основность, требующую адекватной интерпретации, что и является приоритетной задачей труда. Данный комплекс проблем и составляет, предмет исследования.
Степень разработанности темы
История и теория мирового авангарда давно и основательно исследуются за рубежом, этой проблематике посвящен обширный пласт литературы в самых разных странах мира, представить даже краткий обзор которой практически едва ли возможно. В большинстве зарубежных исследований литературы и искусства авангарда преобладает фактологически-описательная методология, равно проявляющая себя в двух типах подходов: регистрирующе-классификационном и политизирующе-социологизаторском. Чистый образец первого типа представляет собой имеющая скорее исторический интерес, но до сих пор считающаяся классической описательная монография «Европейские литературы авангарда» испанского автора Г. де Торре (1925) вкупе с его же позднейшей «Историей литератур авангарда» (1965). Ко второму типу относятся известные работы итало-американского исследователя Р. Поджоли «Теория авангарда» (1968) и немецкого ученого П. Бюргера (1974), носящая то же название. Книга Р. Поджоли представляет собой типичный для западного искусствоведения образец некритичного подхода к изучаемому предмету: претендующая на системность, но бессистемно оперирующая разноуровневым инструментарием, она методологически аморфна и, по сути, противоречит собственному названию, поскольку рассматривает в качестве «авангарда» всю россыпь пост- и внереалистических манифестаций искусства. В отличие от монографии Р. Поджоли, сосредоточенной, преимущественно, на художественном материале, небольшая книга П. Бюргера, сделавшая популярным понятие «исторический авангард» (существовавшее, впрочем, и раньше), трактует авангард как феномен культуры и поэтому в теоретическом смысле представляет собой шаг вперед.
Отдельно следует упомянуть ставшие фактом современной научной жизни издания на русском языке таких авангардоведов мирового уровня, как М. Грыгар и А. Флакер, работы которых давно стали классикой западной и отечественной русистики. В этом же ряду более раннюю веху обозначил австрийский исследователь О.А. Ханзен-Лёве, практикующий довольно своеобразную методологию и соответствующий гипернаукообразный дискурс. Существенную лакуну в историографии русского авангарда восполнил А. Крусанов, автор фундаментального исследования «Русский авангард» в 3 томах (1996-2003), переработавший в 2010 г. первый том своего колоссального труда в 2 объемистые книги. Исследование практики и теории авангарда в отечественной науке до сих пор велось, в основном, усилиями искусствоведов, на опыт которых не может не опираться с чувством благодарности никто из тех, кому доводится хоть сколько-нибудь соприкоснуться с вопросами авангарда. Здесь, в первую очередь, следует помянуть добрым словом коллег-искусствоведов, создавших целую серию трудов под общей рубрикой «Искусство авангарда 1910-1920-х годов», которые выходили под эгидой Комиссии по изучению искусства авангарда 1910-1920-х годов при Государственном институте искусствознания (ответственный редактор Г.Ф. Коваленко). Общеизвестны работы Е.А. Бобринской («Футуризм», 1999; «Русский авангард: истоки и метаморфозы», 2003; «Русский авангард. Границы искусства», 2006) и Т.В. Горячевой (Альманах «УНОВИС», 2003), сопроводившей факсимильную публикацию исключительным по глубине научным комментарием. В 2003 г. появилась основательная монография М. Германа «Модернизм. Искусство первой половины ХХ века», трактующая предмет с адекватными глубиной и рефлексией. В этот же ряд встают и глубоко фундаментальные работы А.В. Иконникова («Архитектура ХХ века. Утопии и реальность». Т. I, 2001), С.О. Хан-Магомедова («Супрематизм и архитектура. Проблемы формообразования, 2007; и другие труды) и И.А. Азизян («Диалог искусств века, 2008).
Своего рода прорыв в инерционном понимании авангарда обозначила книга В.С. Турчина «По лабиринтам авангарда» (1993). Достойным событием в этом ряду стала книга О.А. Юшковой «Станция без остановки. Русский авангард. 1910-1920-е годы» (2008), в которой автор любопытным образом сочетает общеизвестную фактологическую основу с тонкой рефлексией философского уровня. Огромная заслуга актуализации проблематики русского авангарда и введения его в научный обиход принадлежит целой плеяде авторов; прежде всего необходимо упомянуть Д.В. Сарабьянова, Т.Л. Никольскую, Н.А. Гурьянову, Т.В. Цивьян, Р.В. Дуганова, В.П. Григорьева, А.Е. Парниса, Н.А. Богомолова и других авторов. Серьезным событием стала публикация в 1999 г. обстоятельной книги И.М. Сахно «Русский авангард. Живописная теория и поэтическая практика», предложившей объемный теоретической подход к обширному материалу. Впоследствии М. Сахно дополнила свои исследования монографией «Морфология русского авангарда» (2009), объединившей работы разных лет.
Хорошей теоретической оснащенностью отличаются плотно написанные и концептуально проработанные книги И.Е. Васильева «Русский поэтический авангард ХХ века» (2000) и Н.В. Пестовой «Немецкий литературный экспрессионизм» (2004), последовавшей за ее монографией «Лирика немецкого экспрессионизма: профили чужести» (2002), а также ее последняя книга «“Случайный гость из готики”: русский, австрийский и немецкий экспрессионизм» (2009). Подлинно научным исследованием является «Энциклопедия русского авангарда» (2003) Т.В. Котович. Заметным явлением в отечественном авангардоведении стал появившийся в 2006 г. том с интригующим названием «Семиотика и Авангард» (слова Семиотика и Авангард пишутся составителями – они же авторы антологии – исключительно с большой буквы). Однако постичь принцип, заложенный в основание этого фолианта редкостной величины (1168 страниц большого формата), практически невозможно.
Автор данного труда имел счастливую возможность опираться на предшествующие фундаментальные работы в области литературы и культуры начала ХХ века, в частности, труды Отдела литератур Европы и Америки новейшего времени ИМЛИ РАН: такие, как «Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века» (2002), «Энциклопедический словарь сюрреализма» (2007), «Энциклопедический словарь экспрессионизма» (2008), книги, посвященные отдельным аспектам авангардизма и авангардных авторов. Среди последних выделяются новаторский труд В.Д. Седельника «Дадаизм и дадаисты» (2010) и фундаментальная монография Е.Д. Гальцовой «Сюрреализм и театр» (2012).
В то же время предпринятая работа составляет своего рода параллель ведущимся в ИМЛИ РАН исследованиям по русской литературе начала века: это коллективный труд «Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов)» в 2-х тт. (2001); монография С.Г. Семеновой «Русская поэзия и проза 1920-1930-х годов» (2001); книга А.Г. Гачевой, О.А. Казниной и С.Г. Семеновой «Философский контекст русской литературы 1920-1930-годов» (2003), и др. В этом же ряду находятся изданные под эгидой ИМЛИ антологии «Русский футуризм» (1999, сост. В.Н. Терехина и А.П. Зименков) и «Русский экспрессионизм» (2005, сост. В.Н. Терехина), а также комментированное Собрание сочинений В. Хлебникова. Сюда же можно отнести и двухтомный коллективный труд «Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты поэтов» (2008). Опыт теоретического осмысления историко-культурных процессов ХХ в. предложен в изданной ИМЛИ под редакцией Ю.Б. Борева четырехтомной «Теории литературы». Отдельно стоит отметить работы В.А. Келдыша «О “серебряном веке” русской литературы. Общие закономерности. Проблемы прозы» (2010) и В.В. Полонского «Между традицией и модернизмом. Русская литература рубежа XIX - XX веков. История, поэтика, контекст» (2011).
Сама диссертация естественным образом выросла из опыта работы автора над коллективной монографией (в 2 книгах) «Авангард в культуре ХХ века (1900-1930). Теория. История. Поэтика» (2010), в которой ему довелось выступить в качестве автора теоретических глав и ответственного редактора всего труда. В этой масштабной работе, созданной силами большого междисциплинарного коллектива, впервые были исследованы не только история понятия и художественно-идеологическая проблематика авангарда, его генезис, но и его поэтика, практика, национальные и видовые формы, типология, эволюция авангарда, соотношение авангарда с модернизмом и т.д.
Методология исследования
Методологическая позиция автора данной работы состоит в том, чтобы рассматривать феномен авангарда в системной взаимосвязанности его разноуровневых проявлений – художественных, научных, социальных, идеологических и т.д., которые в совокупности образуют культурный текст эпохи, имеющий некую общую эпистемологическую основу. Элементы, составляющие этот текст, несмотря на свою соотнесенность или принадлежность самым разным стратам, сферам, пластам жизненного континуума, выдают явную структурную взаимосоотнесенность и даже изоморфность, что позволяет предположить наличие общей идеосферы и единого синтаксиса, управляющего данным культурным текстом. С целью выявления внутренних закономерностей художественной системы авангарда автор предпочел абстрагироваться от фактологической канвы чисто литературных процессов: такой подход дал возможность выйти на уровень междисциплинарных исследований, столь востребованных современной наукой.
К принципиальным теоретико-методологическим основам труда относятся такие задачи, как рассмотрение основных явлений авангарда в сопряжении и сопоставлении его западной и русской разновидностей; последовательное проведение межвидового принципа подхода к феномену авангарда. Теоретическую и методологическую основу диссертации составляют труды отечественных и западных ученых. Избранная методология позволяет рассмотреть феномен авангарда как глобальный художественно-идеологический комплекс начала ХХ в., представляющий собой системную целостность особого типа, различные манифестации иноформ которой обладают глубокой внутренней взаимосоотнесенностью. В системе такого типа невыявленность в каком-либо художественно-идеологическом дискурсе одного или нескольких признаков целостности обязательно компенсируется интенсификацией других ее функций.
Основные положения, выносимые на защиту
Феномен авангарда рассматривается как целостность разнопорядковых явлений, принадлежащих единой парадигме. При этом основные манифестации авангардного сознания при всей своей векторности обладают внутренней двойственностью – в соответствии с двойственностью авангардной картины мира, ее утопико-эсхатологической доминанты.
Эстетика авангарда знаменует собой не только и не просто новаторский тип искусства, порывающего с традицией, но качественное изменение искусства, находящегося в соответствии с общими изменениями в картине мира начала ХХ века, радикально отличной от всего предыдущего опыта человечества и определившей весь ход событий с двадцатого столетия. Как следствие сдвигологической практики объекты (в авангардистской терминологии – «вещи»), которые в «спокойной» культуре бывают встроены в иерархически структурированную модель мира, в «пограничной» культурной ситуации обретают особую семиотическую нагрузку. Их смыслы «сдвигаются» с положенных им укладом мира позиций, происходит обновление знаковости, тотальное смещение форм и смыслов, которое в русском авангарде и было концептуализировано как «сдвиг» (А.Крученых), «алогизм» (К.Малевич), а во французском – как «сдвинутость», «трансгрессия» (А.Бретон, позже – Ж. Батай). Сходные концепты предложат Г.К. Честертон, Х. Ортега-и-Гассет. В итоге возникает новая семиосфера мировой культуры, которую автор исследования попытался представить в виде непреложно обусловленной системы концептов. В рамках заявленной проблематики тема исследована достаточно основательно для того, чтобы создать фундамент для дальнейших разработок.
Собственно предмет исследования составляет комплексная систематика авангарда как взаимосвязанной совокупности культурных представлений в совокупности с отражающей их прагматикой, направленной на преображение мира. Объединяющим принципом разнопорядковых элементов авангарда автор считает энантиосемию – риторический прием общего явления (текста) с противоположными и разнопорядковыми смыслами.
В силу этого принципа в поэтике авангарда оказываются взаимосоотносимыми такие полярности и такие разнопорядковые пары как интуитивизм и рационализм, спиритуализм и материализм, иррационализм и сциентизм, деструкция и креация, беспредметность и вещественность, спонтанность и «сделанность», утопизм и ретроспективизм, урбанизм и фольклоризм, синтетизм и аналитизм, танатология и иммортология, гелиомахия и комплекс икарийства и т.д. Конечно, в любой системной целостности ее компоненты взаимосоотносимы по определению. Но парадигма авангардистской эпохи подразумевает иной уровень системности, в котором взаимосоотносимыми предстают элементы разнопорядковых сфер – в полном соответствии с принципом, который был сформулирован Н.Бором в его исследованиях 20-30-х годов и был продемонстрирован в различных трудах его современников.
Авангард рассматривается не как некий критический «сбой» в мнимо гладком течении культурной жизни, но как закономерное звено в эволюционной цепи процессов мировой культуры. Поэтому предметом исследования является круг явлений первой трети ХХ в., образующих в совокупности семиосферу эпохи. Естественна сложность разграничения и квалификации художественных явлений по эстетическим параметрам. Однако основное – и кардинальное – различие состоит в том, что авангард осознает себя в принципе вне традиционных эстетических категорий, между тем как для жизнетворчества символистского типа основополагающим является именно вобранный, вчувствованный, пережитой и реализованный эстетизм. Тем не менее, истоки авангарда восходят именно к символистской эстетике, с которой его связывают отношения осмотического типа.
Будучи пограничным в историко-культурном смысле феноменом, авангард является моментом порождения новых, противоречивых смыслов, соответствующих постклассической, нелинейной картине мира. В сущности, демонстративный разрыв с классикой был обусловлен универсальной сменой картины мира, проявлявшейся во всех сферах человеческой деятельности. Фактически происходила смена текста всей мировой культуры, причем новый текст не совершенно игнорировал старый, а лишь преломлял, интегрировал и интерпретировал его в своих целях тотального переустройства мира.
При этом авангард есть картина мира глубоко мифологичная. В картине мира авангардистской эпохи все оборачивается всем, все концы являются началами, а, следовательно, эта картина мира мифологична по преимуществу; ее тотальный мифологизм вбирает в себя и техницистски-прогрессисткие амбиции футуризма, и архаизм неопримитивизма, и сам революционаристский пафос творцов нового мира. Космичности мышления соответствовала космичность языка с его аффектированно а-культурной неправильностью, нарочитой деформацией, формально-смысловой «сдвинутостью». В применении к авангардному типу мышления в целом можно говорить скорее о специфическом комплексе мифологем, культурных архетипов, кодов, представлений, идеологем, сростков смыслов. Концептуация, категоризация и систематизация их возникает на уровне исследовательской интерпретации. Однако в общем мифологическом поле эпохи авангарда сама творческая деятельность, направленная на преобразование картины мира, по необходимости сопровождалась обширнейшим теоретическим аппаратом, вызванным рефлексией этой деятельности о себе самой.
Объектом исследования является исторический авангард первой трети ХХ века как феномен мировой культуры в совокупности художественных и идеологических проявлений. Метафорически авангард может быть представлен как пучок смыслов с общими точками схода. И, как культурная целостность, авангард предполагает именно становление в диахронии, внутреннюю эволюционную динамику. Происходила не смена «–измов», но органичная эволюция стилевой формации, которая может быть прослежена в любом из его аспектов – как эстетическом, так и социально-политическом, и даже естественнонаучном. Этот процесс имел отчетливо выраженные начало и финал и столь же явственно определенные этапы стадиального развития, в основном совпадающие с десятилетними периодами. Сама утопистская тенденция авангардистской эпохи изначально вела от «распыленной» картины мира, от космистской, метафизической тотальности к дисциплинирующей дух «сделанности», «порядку», конструктивистской строгости и лаконизму, к замкнутости, коллективистской сомкнутости и единению.
Цель исследования состоит в том, чтобы верифицировать исходный тезис: авангардистская картина мира как система концептов, кодов и мифологем представляет собой определенную целостность, все компоненты которой находятся в отношениях взаимосоотносимой дополнительности. Для мироощущения 1920-х гг. общим был принцип единства во множественности, тяготение к целостности, универсальности, тотальности, что неизбежно отливалось в категориальное самоопределение стиля. Во всех сферах, в том числе и далеких от собственно художественной жизни, проявлял себя общий модуль эпохи, проявлявший себя как исторический стиль.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач: а) Описание поэтики авангарда; б) Определение семантики основных концептов; в) Установление внутренних системных связей концептосферы авангарда; г) Выявление значения авангарда для мировой культуры ХХ века.
Теоретическая значимость диссертации состоит в разработке принципиально новой методологии, предлагающей рассматривать самые различные манифестации авангардной эпохи не как россыпь разрозненных фактов, но как систему внутренних взаимосвязей, образующих в совокупности стилевую целостность.
Практическая значимость исследования. Основные положения диссертации могут быть учтены: а) при подготовке лекционных курсов самых разных дисциплин; б) при изучении литературы ХХ века; в) в подготовке конкретно направленных исследований; г) при разработке новых методик исследований комплексных явлений культуры; д) в возможности применения выявленного и проанализированного в работе материала для дальнейшего изучения; е) методологические принципы, выработанные в диссертации, могут быть использованы для анализа произведений литературы и художественного текста; равно как и широкого поля культуры авангарда.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые широко и доказательно представлена систематика авангарда в совокупности прежде не привлекавшихся факторов широко понимаемой культуры эпохи, а не только искусства, как это предполагалось по умолчанию, а именно: философии, религии, политики и, в первую очередь, лингвистики. Автору данной работы важно было не столько рассмотреть характер индивидуальных манифестаций общей поэтики, не углубиться в описание окказиональностей, но исследовать их системную взаимосвязь, конституируемую лишь на более высоком уровне абстракции. Задачей исследования изначально было определение систематики авангарда как новой формации литературы и искусства, всей культуры и, соответственно, нахождение адекватных интерпретационных критериев.
Апробация работы. Основные положения диссертации были опубликованы во многих книгах и статьях, объемлющих как русский, так и инокультурный материал, различные виды и сферы искусства. По теме диссертации были опубликованы статьи в разных изданиях, в том числе и входящих в перечень ВАК. Список работ приведен ниже. Автор участвовал во многих конференциях и выступал с докладами, в частности, в странах Латинской Америки, не считая выступлений в институтах и университетах Москвы, в том числе и ГИИ. Под руководством и непосредственным участии автора в ИМЛИ РАН в 1910 г. был осуществлен масштабный проект по подготовке и изданию двухтомника «Авангард в культуре ХХ века (1900-1930)». В качестве сотрудника Государственного института искусствознания Ю.Н. Гирин участвовал во многих конференциях, издал несколько работ и подготовил Третий выпуск «Проблем ибероамериканского искусства» (1913), в котором выступил в качестве автора двух теоретических статей.
Структура работы обусловлена поставленными целью и задачами. Диссертация состоит из Введения и трех частей, разбитых на четыре десятка подглавок, завершаемых Заключением. Содержание подглавок составляет разнородный материал, оказывающийся связанным прочными интертекстуальными связями. Основной блок диссертации дополняет избранная Библиография, включающая 650 позиций. В качестве Приложения фигурирует Синхронистическая таблица, объединяющая основные события из разных сфер культуры первых трех десятилетий ХХ века.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении представлен общий взгляд на проблему авангарда с современных позиций, а также индивидуальный подход автора работы к данной проблеме.
Глава I рассматривает содержание понятия «авангард». Она включает в себя краткую, но достаточно репрезентативную историографию авангардо-ведения, как она представлена зарубежными и отечественными исследованиями.
Авангард в узкоцеховом смысле отнюдь не был доминирующим направлением эпохи, более того – практически невозможно провести границу между литературно-художественными манифестациями «модернистского» и внешне реалистического характера; скорее, между всеми этими явлениями происходили взаимопроникновения осмотического типа. Попутно с необходимостью возникает проблема взаимосоотнесенности понятия «авангард» с гомологичным понятием «модернизм». Однако модернизм стиля не составляет и никакого стилевого единства не представляет. Иначе говоря, в общем смысле понятия модернизма и авангардизма находятся в отношениях соотнесенности, но не идентичности, и их определения всякий раз нуждаются в конкретизации. Модернизм (и авангард) не реалистичны по определению. Но это не значит, что их непременно следует разводить по разные стороны баррикады. Авангард восставал не против реализма – он восставал против традиции, причем непосредственно предшествующей, а себя, как это ни парадоксально, считал именно реалистичным.
Авангардизм даже в пору своего расцвета не был ни единственным, ни даже преобладающим путем развития литературы – он вбирал в себя многое, не отвергая и не подавляя ничего. Вообще, картина мира начала века представляет собой столь необычайное многообразие художественных явлений, что ее попросту невозможно свести к одному общему определению – в этом культурном поле все входит во все, все переплетено со всем и все восстает на все. Реализм в ту пору был тенденцией, одной из многих, тесно и сложно переплетавшейся с иными формами и направлениями искусства и редко когда проявлялся в настоящем искусстве в беспримесно чистом виде. Очевидно, именно эта гетерогенность стилевых систем и направлений как раз и обеспечивает развитие самой культуры, возможной за счет созидательного противотока.
Транснациональность авангарда. Авангард, как это обычно признается по умолчанию, – явление по преимуществу европейское. Европейское не в географическом, а в культурно-историческом смысле, определяемом общностью чисто ментальных критериев. Все же главной характеристикой авангарда было то, что он являлся преимущественно транснациональным явлением. В самых разных странах всех континентов в этот период один за другим организуются творческие союзы и учреждаются журналы (часто эфемерные), основанные на исключительно интернациональных принципах. И в этой наднациональности авангарда проявляется один из многочисленных и имманентных ему парадоксов.
При этом русский авангард во всех отношениях был самым ярким, глубоким и серьезным проектом миропостроения, позволяющим видеть в нем своего рода модель авангардного идейно-художественного комплекса. Если довести логику рассмотрения авангарда как исторической формации до конца, то можно разглядеть и другие, подчас самые неожиданные, национальные версии его самореализации во всех частях земного шара – от Украины до США, Латинской Америки и Японии, – что позволяет ставить вопрос о типологии полицентричности авангарда. В данном труде феномен авангарда принципиально рассматривается как целостность множественности, позволяющая соединить в общую картину самые многообразные аспекты авангардной литературы, искусства, культуры.
Внутренняя форма культуры и энтелехия авангарда. Настоящая работа продиктована стремлением дополнить традиционные историко-культурные исследования изучением своего рода «внутренней формы» авангардной культуры (если воспользоваться термином, актуализированным русской формальной школой) и выявить внутреннюю взаимосвязь составляющих ее явлений и процессов. Вообще, любая форма идеологична. Сказать, что форма содержательна, представляется трюизмом, но идеологичность (как смыслоносность) всегда имманента форме. Так, «Черный квадрат» – это не форма. Это формула. Это воплощенная концепция авангарда.
Глава II посвящена собственно поэтике авангарда, изнутри которой только и постижимы и новая систематика и новая картина мира. Ибо в отличие от приверженцев классической картины, запечатлевавших законченный, статичный образ мира, художники ХХ в. воспринимают мир в его открытости, относительности, сдвинутости, подвижности, незавершенности. Это искусство становящихся, изменчивых форм, ибо художник больше не видит мир в его целостности, он сам вовлечен в его трансформацию, делаясь из субъекта еще и объектом исторического процесса.
Началась настоящая революция в представлениях об окружающем мире, которая вела к изменению понятий о материи, ее строении и свойствах, о пространстве и времени. Так, твердое вещество больше не являлось важнейшей природной субстанцией; пространство и время стали относительными и образовали единый пространственно-временной континуум; само пространство оказалось искривлено, а материя предстала одновременно и частицей и волной; сама естественнонаучная мысль потеряла механицистски-классификаторскую определенность и перешла к оперированию метафорическими понятиями. Методологический смысл их сводился к тому, чтобы увидеть непротиворечивость прежде не сочетавшихся понятий, изменить всю логику интерпретации бытия, ввести признание обратимости картины мира, все явления которых состоят тем не менее в отношениях строгой обусловленности.
Вообще, для мыслителей начала ХХ века было характерно подобное сочетание научности и иррационализма, сугубого материализма и отрешенной метафизичности. Но эта научность была не позитивистского, а, скорее, интуитивистски-когнитивного толка. П.Д. Успенский был мистиком, он доказывал невозможность «математического определения измерений», существующих исключительно в «нашем воспринимающем аппарате», почему искусство и постулировалось им в качестве языка будущего. Рано скончавшийся математик Г. Минковский, впервые научно обосновавший существование четвертого измерения, которое интуитивно прозревали в тот период практически все носители авангардного типа мышления, мечтал о большем: он хотел преодолеть и «постулат относительности» с тем, чтобы разработать «постулат абсолютного мира». В этом и состоял вектор развития всего авангардного движения, и, возможно, один из самых продуманных ответов на этот запрос был дан Малевичем, причем не только в художественном творчестве, но и в философской рефлексии, в виде теории «супремации» объективного мира. Симптоматична развертка одной и той же идеи и на рациональном, и на интуитивном, и на художественном уровнях.
Авангардистские арт-критерии отличны от традиционных понятий художественности прежде всего тем, что деабсолютизируют само понятие прекрасного, лишая его самодостаточной значимости. Авангард, с одной стороны, выходит за пределы художественности, предлагая новый, дерационализированный тип выразительного языка и соответствующей картины мира, новое качество репрезентации мировидения, а с другой, демонстрирует поразительно рационалистическую рефлексию и в высшей степени идеологизированную ангажированность во внехудожественных дискурсах: декларациях, манифестах, философских и лингвистических построениях. И то, и другое выводит его на уровень прагматики. Однако выход за пределы искусства отнюдь не означал отрицания самого понятия искусства с целью культивирования некоего «антиискусства» – такова была форма самообновления искусства. В свою очередь, пресловутая «дегуманизация» искусства, как это ни покажется странно, подразумевала примерно то же, что Кандинский еще раньше обозначал словом «духовность» (которая в его поэтике была сопряжена с примитивизмом), т.е. появление нового эстетического качества.
В сопоставлении двух вышеприведенных типов рационализации культурного дискурса – художнических и рефлективно-критических – нет противоречия. Один из них представляет собой факт культуры, переживаемый самими ее носителями, то есть выступает в качестве субъекта жизнедеятельности; другой есть ее внутренняя форма, оказывающаяся объектом исследовательского подхода. Современному исследователю предстоит изучить иерархию понятий авангарда в системе культуры как целостного и самостоятельного явления. Данное исследование построено на максимально определенных понятийных принципах, согласно которым понятия «культура», «парадигма», «стиль», «концепты» и др. образуют иерархическую соподчиненность; эта структурность обусловлена самой природой и смысловым содержанием вышеуказанных понятий.
Понятие «концептов» также строго категоризировано: под «концептом» здесь понимается то или иное концентрированное выражение разнопорядковых культурных смыслов, которые, взятые в совокупности, образуют системную целостность, могущую быть обозначенной понятием «стиль». Стиль же авангардной эпохи принадлежит более широкому кругу понятий, обозначаемых через понятие «парадигма». Иными словами, речь идет о способах и формах, в которых определенная а не только выражает, но и осмысляет себя – поэтому эти формы и способы по определению не могут быть не чем иным как концептами. Вот эту совокупность полиморфных смыслообразов, мифологем и поведенческих стереотипов, определявших авангардистский тип творчества, и надлежит концептуализировать, формализовать в виде ряда взаимосвязанных понятий. Очевидно, идея пучка смыслов как некой свернутости всех потенций универсума обладала в авангардистском сознании особой эвристической значимостью, которую, в частности, выразил К. Малевич своим «Черным квадратом», также подразумевавшим «зародыш всех возможностей».
Поэтика сдвига. Как следствие сдвигологической практики объекты, которые в «спокойной» культуре бывают встроены в иерархически структурированную модель мира, в «пограничной» культурной ситуации обретают особую семиотическую нагрузку. Их смыслы «сдвигаются» с положенных им укладом мира позиций, происходит обновление знаковости, тотальное смещение форм и смыслов, которое в русском авангарде и было концептуализировано как «сдвиг» (А. Крученых), «алогизм» (К. Малевич), а во французском – как «сдвинутость», «трансгрессия» (А. Бретон, позже – Ж. Батай). Прежде четко структурированный и рационально обусловленный мир – как гуманистически-повседневный, человечески обытовленный, так и абстрактно-вселенский, – стал представать в аспекте модальности, нестабильности, возможности. Принцип преобразования в самом широком смысле, подразумевает смену кодов, детерминирующих определенную картину мира, ее парадигматическую основу.
В картине мира авангардистской эпохи все оборачивается всем, все концы являются началами, а, следовательно, эта картина мира мифологична по преимуществу. Этот реально присущий поэтике авангарда принцип позволяет соотнести друг с другом многие внешне антиномичные понятия. Метафизика русского авангарда совершенно естественным образом выросла из традиций национальной культуры, укорененных в онтологии космизма, всеединства, соборности, Богочеловечества и т.д. со всеми нюансами и вариациями. не только русская, но и вся мировая культура начала века – причем вовсе не обязательно в авангардных ее формах – была охвачена небывалым пафосом «новизны», тотальности, всеобщности, пронизана утопическими идеями, научными и художественными проектами, парадоксальным образом окрашенными в трагические тона. Собственно говоря, линия космо-утопических проектов (Сухово-Кобылин – Федоров – Вернадский – Ле-Руа – Тейяр де Шарден) составляет единый ряд, характеризующий новое антропное сознание в универсальном объеме.
Авангард как система. Безусловно, исследователь авангарда должен иметь своим предметом не только искусство, литературу, вообще – художественную жизнь, к которой обычно и применяется понятие «авангард», но именно культуру во всей полноте человекобытия. Вопрос о системности авангарда еще не стал привычным, не устоялся как методологический принцип. Однако тенденция рассматривать авангард как системную целостность делается все более явственной. Понятие «культура авангарда» включает в себя отнюдь не только эстетику художественного творчества, но в широком смысле тип мышления, несомненно, общий – хотя и не всегда очевидный – для всех деятелей и просто современников данного исторического периода. Будучи чрезвычайно сложным и многосоставным явлением, авангард захватывает целые пласты человекобытия, даже имеющие к авангардистскому культуротворчеству весьма косвенное отношение.
Вопрос о границах искусства в культуре авангарда принципиально не может ставиться, ибо здесь меняется само понятие искусства. Практически одновременно творилась инновационная деятельность в смежных областях гуманитарного знания – научной, философской, религиозной мысли; в том же векторе совершались открытия и в естественных науках. И лишь как следствие инновационная волна материализовалась в формах историко-культурных движений и событий, то есть собственно истории: их дискурсы взаимосоотносимы. Современная мысль склонна помещать скорее науку и технику в поле искусства и культуры как более широкой сферы человекодеятельности. Да, наука и искусство представляют собой разные способы миропознания – но они являются разными аспектами единой онтологической картины мира, выражающие разные измерения общего потока культуры. Именно поэтому представляется несомненным, что авангард следует рассматривать не как собственно художественный феномен, но именно как феномен культуры в совокупной целостности разнопорядковых проявлений.
Составляет ли авангард стиль? Самоочевидно, что художественно–идеологический комплекс авангарда, взятый в его глубинных основаниях, тяготеет к системно-стилевой целостности. Все же даже сам вопрос о внутренней целостности авангарда до сих пор является весьма проблематичным. Казалось бы, как можно говорить о сколько-нибудь целостном стилевом единстве в условиях необычайно буйного произрастания и сложной иерархичности художественных направлений, групп, всяческих «-измов»? Здесь важно иметь в виду, что в авангардистской системе происходило не «разбегание», а «набегание» разнопорядковых стилевых инстанций, ведущее, в результате, к чрезвычайной уплотненности общестилевой конфигурации – естественно, не концептуируемой самими носителями авангардного сознания. Впечатление пестроты возникало в основном за счет колоритности самоназваний группировок и ярких художественных индивидуальностей, всходивших на общей духовной закваске. Имена и названия исчислялись десятками и сотнями, но художественный полиморфизм нисколько не отменяет феноменологической общности, определяемой составом картины мира.
В данном случае чисто формальные критерии не могут служить достаточным основанием для определения характера культуры, ориентированной на преображение мира. Представляется необходимым специально оговорить, что понятия единства, общности и т.п. авангардной культуры подразумевают вовсе не полифонический тип целостности некой множественной структуры – термин удобный и внятный в силу его укорененности в научном обиходе, – которая, как и всякий полифонизм, относится скорее к внешней, результирующей стороне явления. Дело в другом: парадоксальная целокупность авангардного полиморфизма диктуется его внутренней, пока еще не вполне познанной структурностью, отразившей процесс драматически напряженного становления огромного идейно-художественного массива. Расцвет авангардной культуры, проявлявшийся в буйстве манифестов и деклараций, при сухом аналитическом рассмотрении может быть представлен как разнообразие числителей при одном общем знаменателе, или разность предикатов, функций при одной общей константе.
Примечательно, что разнообразные «-измы» по преимуществу не сменяли друг друга в эволюционном векторе, а существовали соположенно, практически синхронно, параллельно друг другу, как «вариации на основную тему» (А. Крусанов), что отмечают многие авангардоведы, призывающие исследовать не мнимое движение от одного «-изма» к другому по эволюционно-прогрессистской шкале, но именно их совокупность и взаимосоотносимость в синхронии. Само художественное сознание начала века явственно стремилось к категориальному самоосмыслению именно в понятии стиля – тенденция, восходящая к самому началу ХХ века, когда искомый «новый» стиль долженствовал материализовать, артикулировать невнятные пока духовные упования эпохи.
Объективно проблема стиля была порождена самим изменившимся мировоззрением современников – тем, что Г. Вельфлин, основной интерпретатор и популяризатор понятия «стиль эпохи», обозначал словом Sehen («современное видение»), Аполлинер назовет затем «новым духом», а большинство современников станут именовать «новой чувствительностью», что, конечно же, было бы правильнее обозначить опять-таки немецким словом «мировоззрение» (Weltanschauung). Однако Вельфлин базировался в основном на картине мира искусства классической поры, возрожденческой по преимуществу, а вот В. Воррингер («Абстракция и вчувствование. Очерк психологии стиля», 1908) был ориентирован в своей трактовке стиля на органически-интуитивистское, даже иррациональное начало, более близкое поэтике авангарда. Но дело не в термине, а в содержательности понятия «стиль», о котором не кто иной, как Воррингер писал в 1915 г. как о противоречивом единстве.
В 20-х годах концепция стиля становится ведущей темой многих серьезных теоретиков культуры страны Советов, ставшей воплощением «большого стиля»: И.И. Иоффе, А.В. Луначарского, Г.В. Чичерина, В.И. Фриче, Ф.И. Шмита, М.Я. Гинзбурга, П.Н. Сакулина, В.Ф. Переверзева и др. Интерпретация авангардистских поисков в рамках общего стиля подразумевает существование определенной «системы соотнесенностей» (Ю.Н. Тынянов), связующей все самые разно- и противоречивые, многим областям духовной и материальной жизни принадлежащие проявления некоей единой поэтики‚ структурообразующей «внутренней формы». Сама неудержимая тенденция к свертыванию изначально гетерогенного «пучка смыслов» в формализованную категорию стиля, затвердевшую затем в монолите метода, совершенно коррелирует с общей векторностью авангардной культуры. Именно как культурная целостность авангард предполагает становление в диахронии, во внутренней эволюционной динамике. Происходила не смена «–измов», но органичная эволюция стилевой формации.
На нынешнем этапе есть все основания видеть в авангарде своего рода идейно-художественную матрицу всего столетия. Во всяком случае, авангард представляется парадигмой общественного сознания, обнимающей собой около трех десятилетий: от середины 10-х годов до начала 30-х. Во всех сферах, в том числе и далеких от собственно художественной жизни, проявлял себя общий модуль эпохи, могущий именоваться историческим стилем, или стилем культуры. Исторически сложилось так, что для мироощущения 1920-х гг. общим был как раз принцип единства во множественности, тяготение к целостности, универсальности, тотальности, всеобщности, всеохватности, что неизбежно отливалось в категориальное самоопределение стиля. В наше время такого рода фактор можно было бы назвать «стилеобразующим сознанием» (П. Гайденко).
Эволюция авангардной парадигмы. Авангард захватил мир по-военному напористо, но стратегически стихийно. Пожалуй, постичь закономерность его эволюции – от бунтарской креативности к внутреннему самоотрицанию, самоистреблению и стагнации – действительно, возможно по крайней мере с вековой дистанции. И тогда становится очевидным, что эволюция авангарда на самом деле вела к его свертыванию, оказывалась инволюцией – такая закономерность развития эстетической парадигмы вполне закономерна. Конечно, в разных видах творческой деятельности процессы происходили далеко не синхронно. Тем не менее, этот процесс имел отчетливо выраженные начало и финал и столь же явственно определенные этапы стадиального развития, в основном совпадающие с десятилетними периодами.
В сущности, самые многообразные «дискурсы» эпохи – от проявлений частной жизни до государственной политики – составляли единый текст культуры, все более тяготевший к монологизму, тоталитарной мегаломании, выталкивающей из общего тела социальной композиции не только рефлексию или диалогизм фигур, но и мелкую пластику частных реплик.
С самого начала все авангардные движения в целом и по отдельности проявляли крайний радикализм и крайнюю же нетерпимость по отношению ко всему, что было для них «иным». Это был реальный процесс, все еще нуждающийся в адекватной научной интерпретации, избавленной от оценочности и эмоциональности. Процесс этот был исторически неизбежным; он касался всей системы взглядов на мир, носил эпистемный характер, а не только художественный или только идеологический. В континууме обращенного в свою противоположность авангарда концепт вещи неожиданно обретал невероятную семантичность одновременно и классицизма и архаизма. Так динамичный вектор авангарда обращался, с одной стороны, в застылость монументальных форм, а с другой – в мелкую суету интимизма.
В 1930-е годы авангард переходит от отрицания истории к утверждению вечности; от отрицания времени, истории («Клячу истории в гроб загоним», «звезды – черви» и т.п., вообще – попыток выстраивания новой космологии – к признанию аксиологического приоритета времени и истории в картине мира («Кто более матери-истории ценен?» и наконец – «В такие вот часы встаешь и говоришь / векам, истории и мирозданью»). Расшатанное было основание науки вновь скрепляет концепция неопозитивизма, упорядочивающая картину мира путем строгой фиксации и классификационного описания данностей. Год 1930 во многих отношениях оказался переломным, рубежным в общественной жизни многих культур. Пожалуй, он знаменовал собой веху культурного движения в планетарном масштабе. Заканчивалась эпоха великого Начала, онтологически сопоставимая с эсхатологическим переживанием Конца мира, маркировавшим смену историко-культурных эпох. Распавшийся было мир входил в эпоху интегральности, и это была уже иная картина мира. Риторичность, нормативность, регулятивность становятся доминантой мировой культуры 30-х годов ХХ века.
Весь вопрос в том, что со временем изменился субъект действования. На смену личности пришла масса – именно масса, а не массы, масса, как трибально-роевое слитное тело. В связи с этим часто говорят об обезличенности человека. Да, в начале века, прежде чем потерять лик прежнего Я, человек стал примеряться к маскам (Пиранделло), идентифицировать себя с «малым сим», «уменьшенным» человеком (Чаплин), распадаться на собственные отслоения-гетеронимы (Пессоа, Мачадо...), мало-помалу превратился в механизму, в куклу, в циркача, клоуна, марионетку. Художник-теург никогда не автономен, он представительствует от имени массы, массового тела, одновременно и воспевая и отвергая ее. Поэтому мирооощущение и судьбы носителей авангардного сознания исполнены исключительного трагизма. Этой ситуации соприсутствуют целые ряды оппозиций. Столь же двойственны и идеология авангарда и само мироощущение эпохи.
Указанная парадигматика распространяется не только на альтернативные друг другу тоталитарные режимы, но и на альтернативное тоталитаризму общество либерально-демократического типа. 30е годы – это эпоха государственного регулирования во всех, а не только тоталитарно организованных государствах. Это с одной стороны. С другой – не все, что творилось внутри тоталитаризмов, было проникнуто тоталитарным духом. Здесь необходимы стратификации хронологического, стадиального, регионального порядка и многое другое, вплоть до индивидуальноличностных характеристик. Ведь даже тоталитарные общества в реальности не представляли собой абсолютный монолит – таковой был лишь сверхидеей, идеальным образцом. Но все же тоталитаризм – это только извод авангардной культуры, которая начиналась как грандиозный проект мироустройства. В основе этого проекта – сложившаяся к началу ХХ в. картина мира‚ ориентированная на катастрофическое переустройство бытия и обусловившая трагико–оптимистическое переживание драмы Великой Утопии.
Глава III посвящена онтологии авангарда.
Является общепризнанной оценка авангардной эпохи как утопической по преимуществу. Но тип, характер и этиология самого этого утопизма обретают свои подлинные смысл и значение лишь при соотнесении с центральным мифом эпохи, и миф этот – эсхатологический, предполагающий преображение мира через гибель и разрушение: «космогоноэсхатологический миф», в терминологии О.М. Фрейденберг, или «творчески-активный эсхатологизм», по Н. Бердяеву. Только в рамках эсхатологического мифа может быть объяснимо противоречиво-антиномичное сочетание апокалиптических и мессианских мотивов, оптимизма и трагизма, жертвенности и профетизма, катастрофизма и утопизма, пронизывающих духовную атмосферу эпохи. Даже сюрреализм, как можно судить уже по самому термину, изначально предполагал некое трансцендирование смысла в n-измерение бытия. Целью сюрреалистического творчества А. Бретон считал достижение «подлинной жизни», лежащей за пределами рационального умопостижения.
Можно предположить, что концепт вселенского «распыления», укорененный в мифосознании авангардистской эпохи удерживал в себе в редуцированном виде представления о космологическом акте рождения нового мира. С этой точки зрения становится очевидным, что такие, казалось бы, конституирующие признаки поэтики авангарда, как деформация, слом, разрыв, распыление и прочие понятия того же синонимического ряда, являются отнюдь не главенствующими в данной системе смыслов, а всего лишь дериватами центральной миропреобразующей идеи. Ибо мифологическая система представлений, лежащая в основе авангардистской картины мира, предполагала мифологический же операционный принцип: прежде чем создать новый мир, необходимо было не просто разрушить старый, а именно вернуть его в прежнее, предшествующее порочно или превратно устроенному состоянию мира, т.е. обратить его в изначальный хаос. Попутно стоит заметить, что изоморфный концепту сдвига концепт диссонанса (связанный, в свою очередь, с мотивами распыления, смерти, катастрофизма, апокалипсиса и т.д.), в авангардистской поэтике отнюдь не обладал однозначно негативными и деструктивными коннотациями. Речь идет не столько о разрушении традиции, сколько о создании новой системы конвенциональностей – не только художественных, но и онтологических.
Имманентный телеологизм авангарда придавал ему сходство с христианской догмой – упования на «новое небо и новую землю» сопрягались с адамическим «нареканием имен» вещности мира, то есть созданием нового языка культуры, нового синтаксиса бытия, вообще – «миростроительством», по Малевичу. Поэтому творческий импульс мог приобретать и отрицающие видимую реальность формы, парадигматическим примером чего может служить «Черный квадрат» (ибо «квадратов» и прочих геометрических фигур было много, и не только черных) того же К. Малевича. В принципе, отношение авангарда к языкам предшествующих культур носило двойственный – полемически-ассимилирующий характер. Новая мера эстетического базируется, прежде всего, на соположении, совмещении двух противоположных типов мироотношения: творчество / разложение.
Имманентная эсхатологическому мифу двойственность определяет дуалистичный характер всех мифологем, составляющих картину мира авангардной эпохи. Ощущение жизни как мистерии, действа по необходимости стимулировали обращенность к архаическим формам и жанрам искусства. Парадоксальным образом, обращение к примитиву, к архаике ассоциировалось именно с обновлением искусства. Но тут возникает связка, по-видимому, относящаяся ко всей типологии авангардистского строения. Связка эта парадоксальна: похоже, что глубинный, в архаику уходящий национализм, культ русскости ли, германскости ли и т.д. теснейшим образом связан с транснациональной сущностью авангарда, его космическими амбициями, его вселенскими проектами, возникавшими также на основе «первоначал». И в этом лишний раз проявляется двуобращенность концептуальной системы авангардной поэтики. Отторгая всю мировую культуру во имя созидаемой культуры завтрашнего дня, авангардисты как будто обращаются в поисках опоры к докультурным, дорациональным первоэлементам архаического бытия, единственно способного обеспечить абсолютную – «адамическую» – чистоту культуростроительного материала.
Преломлением всеобщих утопических тенденций было неосознанное воссоздание в искусстве примитивистски-теллурического начала как первоосновы бытия. Спасительной основой выступал в каждой национальной культуре собственный ли, экзотический ли, но непременно почвеннически примитивный субстрат – древнегерманский, праславянский, цыганский, индейский, африканский, – преобразовывавшийся в мифопоэтическом мышлении художника эпохи тотальной пермутации в коллективный образ народного эпического героя‚ мифологему национального Я, переходящую в магистральную тему народа как носителя высшей человеческой, или даже надчеловеческой истины. Теллуризм подразумевал тягу к миру простых, надежных, извечных, а потому и совершенных вещей (сюда же типологически вписывается и акмеизм); мифологизирующую обращенность к миру земли, животных, растений, вообще – органике, а также к собственной традиции и универсальной архаике.
Как ни странно, оборотной стороной основного мифа эпохи – мифа строительства нового мира – был танатологический комплекс, изначально встроенный в утопистски-космистский проект авангарда. Конечно, на первый взгляд кажется довольно неожиданным, что созидание нового мира было означено танатологической коннотацией. Но в мифопоэтической картине мира, актуализация которой неизбежна в эпохи порубежья, пограничности, внесение временного хаоса (аналога смерти) в мироустройство необходимо именно для переупорядочивания его; такая «встряска» требовалась для еще большего и прочного упорядочивания мира (что, собственно, и произошло). Заметим попутно, что танатологическая виктимация есть форма субъектной трансгрессии. Тот факт, что в дальнейшем трансгрессия чисто метафорическая («Убийство поэта») реализовалась и в жизненно-биографических (реальные самоубийства поэтов, и не только самоубийства) и в литературно-текстуальных дискурсах (обэриуты, поэтика абсурда) лишь удостоверяет ее имманентность авангардной культуре в историческом изводе.
Теоретические построения той эпохи трактовали смерть как онтологическую проблему, подлежащую разрешению, как некий недолжный, ошибочный, подлежащий исправлению атрибут бытия. В авангардистской картине мира танатологический код, содержащий в себе целый спектр основных мифологем, является стержневым, выступая своего рода противоходом, реверсом кода утопически-трансформационного. Человек чувствовал себя стоящим у основания мира, и неудивительно поэтому, что филогенез взывал к онтогенезу. Танатологический код включал в себя компоненты героизма, мученичества, жертвенничества, трансцендентности, иммортализма с такими их дериватами как икарийский комплекс и соответствующими ему мифологемами авиатора, авиации, комплекса падения, взлета, птицы (сокола), акробата, циркача и т.д. и т.д. Танатологический код эпохи был множественным, содержал в себе одновременно целый «пучок смыслов», реализующийся в характерных умонастроении и практике, построенных по принципу семиотической инверсии.
Именно поэтому в поэтике авангарда сумеречный и виктимационный коды сочетались с концептами икарийства, универсалистской идеей Всечеловека, которые, в свою очередь, были неразрывно связаны с массовидным кодом, исключавшим индивидуальное начало. Эпоха великого сдвига порождала иное видение мира (иновидение), который и сам становился иным: быт замещал бытие, но и сам становился новой формой бытийности; миропостроение трактовалось через всеочищающую войну, которая оказывалась родом новой духовности. И все это были абсолютно универсальные концепты. Война (реальная) была мировой, но образ ее существовал в сознании современников задолго до самого исторического события и интерпретировался не иначе как через картину вселенской катастрофы, обновительного космогонического акта, всемирного пожара, уничтожающего прежнее мироустройство. Все это происходило оттого, что определяющим в картине мира авангардистской эпохи и, соответственно, в поэтике авангарда, был принцип смещения перспектив, ракурсов, точек зрения и, как следствие, прием сечения форм, объемов, поверхностей, но также и смыслов.
В основе же всей рассмотренной системы концептов лежит актуализировавшаяся в начале века вагнеровская идея Gesamtkunstwerk, подвергшаяся существенной ресемантизации: акцент был перенесен с музыкального действа на действо как деяние, основной формой художественной реализации которого стал театр. Авангардный театр грандиозен. Это был даже не театр, а некая «сверхдрама» (И. Голль). Однако он величествен даже не потому, что по-своему воплотил и продолжил фантастические идеи о тотальном театре будущего Р. Вагнера. Авангард утопичен, а любая утопия требует мистериальности. Авангардная мистерия выросла из символистской и подхватила ее принципиальную обращенность к архаике, слияние индивидуального героического начала с коллективным и воплощение их в синтезном произведении искусства, которое они видели конечно же в театре. Не случайно немецкий экспрессионистический театр наделял свои постановки едва ли не мистическим значением – подразумевалось, что новая драма должна была способствовать рождению нового человека и новой духовности. Русские символисты видели в театре преимущественно путь к реализации хоральной всеобщности, мистериального, «теургийного» действа.
В трактуемой таким образом театральности достигалось совмещение метафизического «богодейства» с теллурическими тенденциями в их самом архаическом изводе. Антиисторизм авангарда требовал ритуально-мифологических форм, сюжетно воспроизводивших именно исторические события. Грандиозность авангардного театра заключается в его мифоносности. Он мистериален по своей природе, хотя разнопорядков и многоуровнев – в зависимости от места и времени. «Театрализация жизни» понималась как реальный процесс, связанный с массовой трансформацией общества и культуры. Формой реализации этих тенденций становился балаган, синтезирующий в себе все формы искусства. Смешение искусства с жизнью; ролевое жизнетворчество; «игра в себя»; идея сверхчеловека; образ личности, ощущающей себя одновременно и деятелем и жертвой; эсхатологизм и созидательный импульс; мифологизация художником-творцом собственной личности и судьбы – вся эта типичная атрибутика атмосферы рубежа веков ярко обозначилась и в европейской и в русской духовной жизни.
Ведь сотворение нового мира действительно осмыслялось всеми его участниками как космогонический акт, интерпретировалось в категориях мистерии, ритуального действа и требовало осознанно игрового поведения. Подобного рода гротесковость и разрабатывалась, в частности, в теории «сверхдрамы» (1919) И. Голля, равно как и в концепциях Н. Евреинова.
Развитие же собственно театральной утопии (Вс. Мейерхольд) сопутствовало «режиссированию» общественной жизни, понимаемой как гигантский «тотальный театр». Вс.Э. Мейерхольд в своих исканиях был далеко не одинок: открытое им направление было типологически общим для мировой культуры; оно соотносилось с мифологемой «всечеловека», человека-машины, с идеей тотальности и пр. Театральная биомеханика перерастала в функциональность и инструментализм художественного языка, а отсюда недалеко было уже и до режиссуры жизненных форм. В художественном мышлении место романтики вселенского утопизма и жизнестроения заступали фактография, прагматичность, конструктивизм. Теория биомеханики была, по сути, универсальна (тейлоризм), и выходила за пределы театральности – к принципам «машинизации» человека и всего живого. Но и сам конструктивизм был, по сути, лишь одной из форм выражения той общей атмосферы эпохи, в которой доминировали идеологическая заданность, риторичность, дискурсивность выражения.
Основными формами театральности стали балаган, и цирк. С одной стороны, они представляли собой сниженные, переходные формы классической театральности, с другой же – и это наиболее важно, – актуализировали древнейшие интуиции, архаические ритуалы, что как раз и свойственно переходным этапам в истории культуры. Эволюция театральной культуры в сторону снижения была всеобщей – она обусловливалась появлением на арене мировой истории нового социального типа: человека-массы. Интереснейшим образом этот процесс прослеживается на примере эволюции форм и семантики массовых действ в СССР и Германии: ведь язык парадов – это язык жестов‚ воплощенных идеограмм. Так в 30–е годы на очищенном теле массы власть уверенно выписывала свое имя. Поэтому на сниженном, бытовом уровне масса подсознательно стремится уподобиться элите, заголовку (случайно ли, что любая власть в то время именовалась «головкой»?), воспроизвести ее сакральный статус путем идентификации и охотно примеряет на себя функцию объекта в кино, спортивных мероприятиях и пр. В тоталитарном государстве существовала инвертированная практика зрелищ, где участников репрезентировала масса, а зрителями были единицы. В этом смысле смежные виды искусства – архитектура, живопись и сам театр в первую очередь – оказывались всего лишь декорациями, или, вернее, элементами сценографии огромного исторического действа, где исполнителем выступала монолитная человеческая масса.
Характерно, что в авангардистскую эпоху концепт театра как модели мира распадается на два полярных, но взаимосвязанных кода. С одной стороны, происходит «циркизация театра», эстетика театра десакрализуется, приближается к балаганно-зрелищной эстетике цирка. С другой – сам цирк приобретает онтологическую функцию коллективного действа, оказываясь не столько формой досуга, сколько выражением потребности массы в самоидентификации, причащении к жертвенному приношению идеалу. При этом следует иметь в виду, что и сам цирк как действо издревле сакрален, само его название («круг») этимологически и семантически сближает его с функцией капища, церкви, требующих неизбежного ритуального жертвоприношения. Однако с цирком всегда связаны понятия игры, гротеска, эксцентрики, смещения норм. Круг цирка, в отличие от рампы-окна в мире театра, нес в себе принципиально иной образ мира. Однако же и современный цирк хранит в себе фантомы архаических ритуалов. Это, прежде всего, вызов судьбе, игра со смертью, испытание, борьба, ритуальный смех. Театр требует психологизма, литературности, высокой культуры; цирк же архаичен и примитивен в смысле а-рациональности. Театр рассчитан на индивидуальность восприятия; цирк – на роевое, трибальное сознание. В ритуале главное – жест, в цирке статус жестуальности мультиплицируется его а- или сверхнормативностью, т.е. цирк ритуалистичен по преимуществу. Даже храм в этом смысле отступает на второй план каноничностью своей обрядовости.
В цирке нет иерархии героев. Артисты всех жанров – это один и тот же герой, с которым ассоциирует себя зритель, сопричащающийся поэтике балансирования, переменчивости, обратимости, преобразования. Поэтому современный цирк – это не аналог римского ристалища, а жизненно-пластический оксюморон, культурный каламбур. Если цирк – это все же арена, агон, театр, то маленький человек есть антагонист циркачу, трикстеру, гладиатору, да к тому же еще он – часть толпы, пассивно созерцающей агон. Он делается большим только за счет роевого феномена – то есть массового тела. Со временем, по мере становления института аттракционов, всяческих луна-парков, игнорировавших ритуалистичность и цирка, и театра, ситуация стала меняться. Все получали возможность на короткое время побывать циркачом, силачом, демиургом – и цезарем и рабом одновременно. В самом деле, театр как модель общественного сознания, подвергается радикальному преображению (характерное слово эпохи). В этом театре человек, бывший субъектом исторического деяния, превращается в его объект, становится вещью. В новом «театре мира» кукловод сам обращается в марионетку, движения которой ограничены и лишены пластичности, зато каждый жест исполняется особой значимостью.
В авангардистскую эпоху новая форма обретает себя в средостении жанров и видов искусства, что весьма наглядным образом проявляется, в частности, в широком распространении всякого рода «кабачков», «кабаре», артистических кафе и пр., своеобразно сочетавших самые высокие и самые низкие сферы, перекодировавших тексты и языки культуры. Основная их функция, декларировавшаяся и манифестно (в частности, Маринетти), состояла в разрушении сценической иллюзорности и создания новой реальности путем вовлечения зрителей (публики) в общее артистическое действо, которое оборачивалось особой – пограничной – формой жизни. Как ни странно, именно кабаре было той платформой, на которой только и мог сформироваться искомый, «целостный» театр. Эволюционно то был путь из «башни» в «подвал», из салона – на подмостки, означавший театрализацию самой идеи театра и перенос его принципов в жизнь, его остранение через демонтаж форм и мистериализацию.
Вся двойственность авангарда, его двуобращенность обязаны именно тому, что он возникает в зоне пограничья, на стыке культурных эонов – а потому его энантиосемичность дает о себе знать во множестве форм и явлений. То же и с «балаганом»: его идейно-художественное наполнение было лишено того однозначно пейоративного оттенка, которым он окрашен в современном сознании. Все это было больше, чем «антиповедение» и «абсурдистский гротеск», направленные единственно на эпатаж презренного обывателя. И трагический «Балаганчик» (1906) А. Блока, посвященный Вс.Э. Мейерхольду, возник отнюдь не только в кафешантанной атмосфере. Ф. Гарсиа Лорка писал самые глубокие вещи для созданного им бродячего театра под названием «Балаган» («La Barraca»). Достаточно напомнить, что «Петрушка» (1911) И. Стравинского, вобравший в себя поэтику «балаганного фольклора», также опирался на «ретроспективный» мелос и соответствующие инструменты. Чрезвычайной глубины и значимости исполнен сам образ Петрушки: это паяц, но – паяц живой, он порождение толпы/массы, ее жертва и предупреждение. В развитие музыкального мышления Стравинского родился совершенно новый язык, который был развит в «Весне священной» с неслучайным вариантом названия «Великая жертва» и архаико-теллурической тематикой, вскоре закономерно приведших композитора к неоклассицистскому мышлению. При этом надо иметь в виду следующее обстоятельство. Высказанная выше мысль о мифогенности авангардной культуры по необходимости подразумевает ритуалистичность едва ли не всех форм ее проявления
Между тем неустойчивость авангардистской картины мира и неукорененность человека в собственном Я как раз и отливаются в характерных мифообразах цирка, площадного действа, массовой жестуальности, прямо вытекающих из театрального мироощущения и эстетики жизнетворчества предшествующей эпохи – достаточно вспомнить образы циркачей, воспетых Пикассо, и не только Пикассо. И не только Аполлинером. Чаплиновский «Цирк» был снят только в 1928 г., но задолго перед этим великий артист создал образ маленького человека, ловко увертывавшегося между жерновами судьбы. Стало быть, великий человек мог быть и маленьким. Это мифосознание требовало образа Большого человека, которое и воплощалось в телесно убедительных фигурах силача, большевика, вообще – представителя массовой силы: это и «фигурины» Л. Лисицкого и гигантские «Менеджеры» Пикассо и «Большевик» (1920) Б. Кустодиева, где представлен эпизированый образ великана, попирающего массу, бытовую наличную жизнь и образы традиционного бытия вообще. Что касается Советского Союза, то здесь закономерная эволюция общественной и социальной жизни привела к десакрализации цирка и его дальнейшей театрализации, сделав его просто массовым зрелищем. Почему-то в постреволюционной России цирк (как и балаган) становится специфицированной формой культурного бытования, отчасти объяснимой появлением нового типа массовидного реципиента.
Но тут возникает чрезвычайно парадоксальная ситуация, связанная со всем вышеизложенным. У того же Пикассо образ циркача/акробата/комедианта с его небесно-солярными коннотациями соравен образам нищих, обездоленных, умаленных. Однако умаленный, маленький человек – это и воплощенная модель нового, массовидного сознания (здесь – опять же Чаплин). Стало быть, малый человек – это обращенная модель великого человека, демиурга творения. Вернее сказать, это одна и та же модель человека в энантиосемичном преломлении.
Безопорность, балансирование на ненадежном мгновении катящейся, вертящейся, крутящейся судьбы – вот суть циркачества как мифологемы и эмблемы эпохи. В новых обстоятельствах зыбкость символистских смыслов материализуется, трансцензус оказывается дискредитированным, образ мира – сдвинутым, и ответственность за мироустроение падает на человека. Лишенный полноты и цельности мир порождает в рефлектирующем сознании образы, связанные с понятиями всеобщей сдвинутости, неустойчивости, динамизма, но вместе с тем и провоцирует онтологическую озабоченность поисками иных, космического масштаба, мирооснований, лежащих за пределами умопостигаемой данности. Циркач – по определению трикстер, но в новых обстоятельствах, в «новые времена» он выступает своеобразным демиургом деиндивидуализированного мира.
Очевидно, можно утверждать, что изначально цирк являлся моделью мира, но – лишь в его онтологизированном значении; что же касается современного цирка как типа зрелища, сама его институционализация свидетельствует о совершено другой функции: замкнутость арены, стягивающая к себе массы, есть совсем иная модель мира, прямо противоположная первой. Естественно‚ что подобная трансформация человеческой природы остаться без последствий не могла. В итоге результатом исторического процесса‚ ценностным ориентиром которого выступает не индивидуум‚ но коллектив‚ масса‚ становится крушение гуманистической утопии и низведение горделивого «творца истории» до фигурки «маленького человека»‚ маргинала‚ шута; происходит «ничтожение» (М.Хайдеггер) образа человека и мира. На смену величавому театру Истории с его космогонической мистериальностью приходит фарсовое трюкачество цирка‚ оксюморон театра‚ культурный каламбур. Поэтика авангарда постоянно и повсеместно обращалась, не могла не обращаться к традиции, но – в сдвинутой, претворенной новаторством форме. Фактически авангард был столько же занят поиском новых путей, сколько и обретением опор в традиции. Деактуализация исчерпавшего себя канона сопровождалась реактуализацией многих канонов. Самый феномен социальной и культурной революции не сводился к полному и радикальному перевороту всего и вся – вопреки этимологическому значению слова «революция»: в действительности происходила не только и не столько смена одних смыслов и знаков на другие, сколько актуализация существовавших раньше и лишь востребованных в определенный момент культурных тенденций.
Характерно другое: традиционные формы искусства включались в систему авангарда в качестве произвольных инкорпораций, которые, однако, функционировали не в режиме «чужого слова» (ибо они лишались референциальных связей, культурного содержания, своих изначальных смыслов), а в качестве вспомогательного материала в деле строительства нового культурного текста. Иногда это была цитация, иногда – парафраз, иногда – актуализация архаики, но всякий раз такое обращение приобретало форму гиперболы, гротескового сдвига, то есть пермутации. Итак, декларативно отвергающий традицию авангард на самом деле насквозь цитатен и весь построен на обращении к культурной памяти. Дело только в том, что в континууме авангардной поэтики цитата перестает быть таковой, поскольку ее изначальный смысл адекватно не воспроизводится. Цитата по определению смыслоносна, в авангардистском же дискурсе цитата десемантизируется, ей сообщаются иные коннотации, она подвергается процедуре сдвига. И даже когда аутентичный смысл цитаты сохраняется, на него все равно накладывается новый, уже смещенный, остраненный смысл – именно таков случай скандального «Фонтана» М. Дюшана.
Резюмируя, можно выделить разные типы и категории функционирования ретроспективизма в поэтике авангарда. А) Неоклассицистская тенденция и опора на традицию как имманентное свойство авангардистской культуры. Неоклассицизм в ту эпоху был релевантен как вне, так и внутри авангарда. Здесь показателен случай Пикассо с его рецидивом ретроспективистской тенденции. Другой полюс представляет собой К. Петров-Водкин. К этому же типологическому ряду относится и акмеизм с его принципами осязаемости, вещности, ясности, весомости материального мира и одновременно устремленности к запредельному совершенству, к некой трансцедентальности искусства. Б) Эволюционное нарастание консервативно-монументальной тенденции в рамках общей авангардной парадигмы. «Возврат к реальности», обращение к фигуративности – квазиреализму в живописи (Малевич) и постепенное остывание «горячих форм» в искусстве и литературе. В) Институционализация новой стилевой типологии, известной под названием Большой стиль, стиль Сталин, стиль Третьего рейха и т.д., частным случаем или ответвлением которых являлся ар деко. В целом, ретроспективизм авангарда подразумевал отрицание непосредственно предшествующей культуры, но практиковал обращение к «вечным, абсолютным ценностям». Выражаясь грамматическими категориями, можно сказать, что в синтаксисе авангарда «футурум» включало в себя культурный плюсквамперфект, но, дабы не повторять выражение Маринетти, укажем, что авангард был ориентирован в культуре на дистантное отстояние, в результате чего иногда ахрония переходила в хронофобию.
Неудивительно, что роль важнейшего культуростроительного фактора в системе авангарда играет язык, подвергающийся творческой трансформации в процессе тотальной устремленности к первоначалу бытия, к докультурным основам, необходимым для создания новой картины мира и утопического построения нового мира, а основным механизмом оказывается принцип всеобщего преображения на пути к тотальности бытия. И отнюдь не случайно в авангардной картине мира доминировала именно лингвофилософская система воззрений. Как представляется, сама форма введенного В. Шкловским термина – остранение, - вступающего в противоречие с правилами (традицией!) русского языка, удерживает весь смысл авангардной поэтики с ее принципиальной аграмматичностью, которую Ю. Тынянов интерпретировал как «смещение системы». Онтологизированное слово оказывалось средством и способом (орудийную функцию имени вещи на философском уровне постулировали и А.Ф. Лосев и П. Флоренский) понимания и покорения мира и человека в его составе, как микрокосмоса по отношению к макрокосмосу. Онтологизация слова как целостного концепта бытия не только не исключала пристального внимания к атомарному составу художественной формы, но строилась на таких микроэлементах литературы, которые никогда ранее не были предметом эстетического внимания. Новый космос создавался даже не из слов и не из букв, а из звуков, графем и их элементов, которым придавалось едва ли не сакральное значение в творимой «литургии». Важно подчеркнуть, что этими элементами были не столько идеограммы, по определению обладавшие закрепленной семантикой, сколько именно графемы, лишенные собственного значения и тем самым обретавшие некий трансцендентный смысл.
Более того: человек эпохи авангарда попытался изменить и свою собственную природу, связанную с языком, речью, письмом – он просто отказался от них и стал сотворять себе новые знаки мира. Необходимо было освободить слово от рационально-утилитарного груза значений, предоставить ему свободу (маринеттиевское «слова на свободе» было точной и удачной концептуальной находкой), т.е. возможность претвориться в самостоятельную, новую, совершенную реальность, освобожденную от всех прежних координат – времени, истории, земного тяготения. Материалом авангардистского творчества оказывалось не смыслонаполненное Слово, а слово, свободное от вложенного в него культурой смысла, семантически стерильный знак, который, однако же, в новом контексте обретал коннотации адамической первородности, изначальной, превербальной, дорациональной эссенциальности, и в этом качестве оказывался изоморфным своей антитезе (как natura naturata – natura naturans) – внеположному антропной культуре природному, стихийно-первозданному началу. Примечательно, что теоретические установки формальной школы также подразумевали отношение к поэтическому языку как к интровертивной функции, к вербальному выражению – как самоценной «обращенности на само себя» (Г.О. Винокур).
Практика тотальной пермутации была далеко не однозначной: она включала в себя как дезинтеграцию, так и синтез новых форм и смыслов – достаточно обратиться к процессам словотворчества, происходившим, как правило, вослед новаторским акциям в области пластических искусств. Распыление, разложение, атомизация культурного дискурса не означали самодовлеющего нигилизма – напротив, именно поиск первосущностей, устремленность к проторечи свидетельствовали о стремлении обрести/изобрести новый, тотальный, абсолютный язык культуры. Причем, типичная для авангардистского типа мышления тенденция к выработке нового, универсального языка подразумевала непременную опору на некие праформы, этимоны, «корнесловие». Эта позиция диктовала и теорию, и практику специфически авангардистской творческой деятельности, подразумевающей трансформационное отношение к наличному миру как к объекту. Инструментальный подход к материалу лежит в основе нового мышления: принцип «сделанности» в живописи утверждает Филонов‚ «построенность» текста книги постулирует Эль Лисицкий, метод «креасьонизма» в литературе провозглашает Уйдобро‚ «творянами» именует новых людей Хлебников‚ понимание искусства как приема и самоцельность формы постулируют исследователи–словесники‚ архитектуру и смежные виды искусств захватывает эстетика конструктивизма. Из области искусства творческий подход проецируется в жизнь‚ преобразуется в социальную телеологию.
В авангардистской аксиологии категория творчества (делания, приема, созидания, конструкции) оказывалась выше категории искусства как сферы прекрасного, обретая самодовлеющий статус. Разложение (распыление, аналитизм) имело своей оборотной стороной потребность в тотальном миротворчестве, интеграции и синтетизме. Но если имя, буква, знак, звук выступают в качестве кода мира, то, естественно, образуемый ими текст не может быть ничем иным, как криптограммой, не доступной пониманию и даже исключающей таковое. В этом и состоит онтологическая сущность авангардистского артефакта – его непонятность, неуразумеваемость, трансрациональность свидетельствует о его тяготении к миру космоса, природы, natura naturans, а не миру искусничества, natura naturata. Предполагалось, что чем непосредственнее, «примитивнее» будет внешняя оформленность «внутренней сущности», тем значительнее ее жизнетворческая ценность. Здесь обнаруживается двойственная сущность онтологического восприятия буквы как знака в поэтике авангарда: «космическое значение» «буквы как таковой» оказывается напрямую связанным с ее насыщенностью теллурическими, архаическими, примитивистскими компонентами, удерживающими в себе вне- и надкультурные, универсальные, природно-целостные смыслы. Примат плотски-вещественного чувства творимого слова объяснял парадоксальное совмещение рукописной и афишной стилистики авангардистских текстов. При этом строение типично авангардистской «вещи» (чем бы она ни была) аналогично строению авангардистского слова как модели мира, ибо «имена как “части речи”, суть смысловые сгустки или кристаллы» смыслов «космического значения» (С. Булгаков).
Новая категоризация обусловливалась новым типом сознания. Это следует иметь в виду для того, чтобы не искать в заумных, дадаистских, сюрреалистических и абсурдистских текстах элементов привычной логики, не пытаться рационализировать имманентно иррациональное, как это делают многие исследователи («геометры», по выражению Н. Евреинова), исходя из самых благих намерений. Однако это иной тип мышления, иной дискурс, построенный по иным законам, чуждый логосу и рацио, хотя и полемически диалогизирующий с ними: это именно «собственный язык», где слова «не имеют определенного значения» (А. Крученых). Заумный язык, трансрациональный по определению и в принципе исключающий логический подход, ориентирован на иные методы миропознания. Это два разных типа ментальности, два типа поэтик, принадлежащих к не пересекающимся мирам. Авангардного рода произведения, созданные в поэтике сдвига, нельзя трактовать с точки зрения понятности или непонятности, соответствия их «содержания» привычным системам понятий.
Такого рода художественное высказывание поддается интерпретации с большим трудом, оно может быть истолковано только путем помещения в более широкий системно-ассоциативный контекст всей поэтики авангардной культуры. Т.н. «заумный» язык вовсе не обязательно подразумевает отрицание рационального дискурса. Тем не менее, язык культуры, какой бы способ выражения он ни обретал, был основным способом регуляции мира – от зауми с ее разложением естественного языка до марровских попыток выстраивания филологической «суммы» в русле новой мифологии; от имяславия с его метафизикой имени до, казалось бы, немотивированого сталинского обращения (уже в поставангардистскую эпоху) к вопросам языкознания, где вождь излагал, по сути, свои воззрения на общественное устройство. Примечательна сама эволюция языкового сознания: от поисков «внутренней формы слова» к полностью овнешненной форме любого дискурса, к отрицанию какой-либо индивидуальности высказывания.
В принципе, в авангардистской поэтике девербализация значащего слова, текста оборачивается вербализацией знака, графики, идеограммы. Установка на материальное, графическое воплощение, даже овеществление знака (слова, буквы, цифры) в графемике обретает такую же релевантность, как и установка на его нематериальное, фоническое выражение, на устную речь, звуковое слово – обе ипостаси манифестировали онтологическую сущность как бы впервые сотворяемого языка. Автор авангардистского произведения словно бы стремился продемонстрировать нарочитую адамическую наивность, своего рода вещее неведение о правилах и нормах создания культурного текста. Именно поэтому авангардистское сознание стремится идентифицировать себя с архаичным, первобытным, примитивным мировоззрением. Ставшая в европейских искусствах настоящим поветрием повсеместная имитация именно негритянского культурного дискурса (пластики, речи, музыки) свидетельствовала не об увлечении экзотикой (это было на стадиально предшествующем этапе развития искусства), а о подсознательных теллурических интуициях, о стремлении ощутить наибольшую близость к природному, докультурному, почти животному состоянию человека и «нулевой» степени культуры, позволяющей сотворять новый язык в его самых изначальных, жестуально-звуковых формах.
В общем смысле, творение на ином, не «родном» языке становилось общим принципом нового искусства, замещавшего привычный для восприятия язык языком иноприродным по отношению к самому искусству. Еще в 1913 г. М. Дюшан ставит перед собой задачу «делать произведения, которые не были бы искусством», что, по сути, означает создание новой иконической и семантической системы, где оторванный от легитимированного культурной традицией смысла знак обретает самодовлеющее, самоценное значение. Поэтому, в частности, и сам естественный язык изначально становится проблемным полем, предметом исследований т.н. формальной школы, которая впоследствии уступает место марровскому «новому учению о языке», изоморфному строю институционализированной утопии. Язык авангардной эпохи менялся разительно. Массовидное тело требовало столь же всеохватного, предельно обобщенного и доступного языка. В эту эпоху онтологизация знака как элемента нового культурного языка распространялась и на цифру, число. Представляется далеко не случайным, что книга О. Шпенглера, вышедшая в 1918 г., открывалась именно главой «О смысле чисел», непосредственно вслед за которой следовали «Проблема мировой истории» и «Макрокосм».
Вообще, нумерология является одной из основных составляющих авангардистской и поэтики и картины мира. У Хлебникова его языковая утопия («звездный язык») обретала онтологическое измерение именно через нумерологический код. В авангардистской поэтике, как уже было показано, различия между графикой и семантикой цифры (числа) и буквы нивелируются, зато актуализируется их магический смысл, поэтому число оказывается аналогично имени, счет – именованию, т.е. созданию нового смысла. Таким образом, число (а также и знак числа, и знак вообще) сакрализуется, становится носителем онтологических значений. А, следовательно, любой знак в своем графическом оформлении (обычно утрированном) оказывался знаком как таковым, семантически маркированным шифром. Вот почему в художественном творчестве и в философской рефлексии многих деятелей авангардистской эпохи нумерология соотносительна концепту знака вещи как эссенциальному шифру мира. Таким образом, и фонический, и графический, и нумерологический и многие другие коды поэтики авангарда коды оказываются взаимозависимыми и взаимообратимыми элементами общего семантического поля. Позднее стало очевидно, что сдвинутый текст жизни, трансформированная волитивной интенциональностью действительность в свою очередь стремится деформировать весь общественный дискурс – в том числе и собственно языковой узус. В России об этом свидетельствовали не только появление пресловутого «новояза», но и проведенная реформа орфографии, и тотальное увлечение косноязычными именами, названиями и акронимами и введение массы неологизмов, варваризмов, и повальное переименование всего и вся, означающее смену картины мира. Оба антиномичных концепта – неоформившегося дорационального слова и слова материально выраженного («слова как такового», «фактуры слова») – были исполнены одинаковым ощущением онтологизма слова как первоматерии нового мира.
Бессмысленное с точки зрения обыденного сознания, здравого смысла («Это слова с нереализованным смыслом»), слово обретает максимальную конкретность, материальную весомость. Со временем онтологизированные концепты фактуры и вещи обретают коннотацию материальной предметности, выражая представление о преимущественно объектном, волитивном мироотношении. В мировой культуре начала ХХ в. понятие вещи полнилось воистину бытийным смыслом. В европейской мысли концепт вещи становится предметом активной философской рефлексии (Кассирер, Ортега, Хайдеггер и мн. др.). «Вещный код» был категорией универсальной, проявлявшей себя на всем пространстве авангардистской культуры. Однако в результате закономерного эволюционного процесса, который претерпела авангардная эпоха, в последнем акте великой драмы концепт вещи теряет свой изначальный бытийный смысл и наделяется прагматикой бытовой утилитарности, о чем, собственно, и предупреждал Хайдеггер.
Заключение
Итак, выявилось, что в семиосфере авангарда разрушение служит созиданию, а созидающая воля ведет мир к апокалипсису. Как уже отмечалось, деформирующее начало, лежащее в основе авангардистского типа мышления, мировоззрения и соответствующей поэтики, имеет двойственную природу. С одной стороны, оно, несомненно, обязано глобальным эпистемологическим сдвигам, произошедшим в мировой культуре на рубеже XIX-ХХ веков и обусловивших смещенный, децентрализованный образ мира и соответствующих его интерпретаций. С другой, отчасти обязанной первой, смещенная, деструктурированная картина мира была результатом не только разложения центростремительной, антропоцентристской парадигмы, но и возникновения новых, космистски ориентированных тенденций, ощущения человеком выхода за пределы ставшей тесной ему цивилизации и слиянности с миром природы. Полем столкновения этих по видимости противонаправленных, но единосущностных принципов, становились и наука, и искусство, и социальная жизнь человека, тяготевшая к преобразованиям на новых основаниях.
Попутно важно отметить один важный фактор общеметодологического свойства. Образ утопического проекта авангарда мог – частично или даже преимущественно – совпадать с реальным контуром политической и социальной практики (таков случай частичного и временного взаимоналожения интенций итальянских футуристов и фашистов), могли совпадать (или не совпадать) этапы эволюции, могла даже произойти частичная конвергенция обеих сфер, но при этом их сущностная природа оставалась принципиально различной: заведомо нереализуемая утопичность авангардной идейно-художественной мысли (пусть даже объектно материализованной) и целенаправленная прагматичность авангардной художественно-идеологической политики. Именно поэтому авангардистский проект, ставший реальностью, обернулся против себя самого.
В данной работе, представляющей собой подступы к объемному изучению поэтики авангарда, удалось рассмотреть лишь часть концептов и мифологем, составляющих авангардистскую картину мира. Автор сожалеет, что ему не удалось рассмотреть в должной мере такие концепты, как принцип текучести (релевантный для поэтики авангарда), игровое начало авангарда (ведь большинство художников и литераторов выступало на подмостках/трибунах), прагматику авангарда, его деконтекстуализацию и его органицизм, его синкрезис, а главное – механизм обращения субъекта действия в его объект. Тем не менее, можно подытожить, что авангардистская картина мира как система концептов, кодов и мифологем представляет собой гетерогенную, но структурно взаимообратимую целостность, все компоненты которой находятся в отношениях агрегатности, взаимосоотносимой дополнительности, двойной парадигмы, энантиосемии, и все же выявляют некую морфологическую общность.
Авангард первой трети ХХ века, то есть исторический авангард, будучи кризисным явлением культурного процесса, оказывается, как это свойственно кардинальным явлениям мирового искусства, феноменом культуротворчества всемирного значения, являясь одновременно следствием, итогом и началом новых процессов вплоть до современности. И все же, взятый в макроисторической перспективе, авангардистский проект означал нечто большее, нежели только попытку человечества прорваться за рамки, установленные рациоцентричной картиной мира, ценой слома традиционной системы ценностей – изначальной и главенствующей была идея сотворения нового, сущностно иного мироустройства.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНО В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:
Статьи по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях,
включенных в реестр ВАК Министерства образования и науки
1. К вопросу о латиноамериканской модели мира // Латинская Америка, 1993, № 9 – 0,7 п.л.
2. “Итак, мне не выразить жизни иначе, как смертью...” (к 100летию со дня рождения С. Вальехо) // Латинская Америка, 1992, № 56 – 1 п.л.
3. Бразильский модернизм как зеркало русской революции // Латинская Америка, 1994, № 78 – 1 п.л.
4. К вопросу о самоидентификационных моделях латиноамериканской культуры / Iberica Americans. Механизмы культурообразования в Латинской Америке. М, 1994 – 1,2 п.л.
5. Авангардизм как пучок смыслов. Опыт исследования художественного сознания 1910-1930-х годов // Вопросы искусствознания. № 2, 1997. 2 п.л.
6. В поисках “изначальной чистоты”. Эпоха авангарда в культуре Кубы // Латинская Америка, 1 п.л. № 7, 2000.
7. Гильен ― это особая тема... // Латинская Америка, 0,5 п.л. № 1, 2001.
8. Мир Сесара Вальехо // Латинская Америка, № 3, 2002. 1,2 п.л.
9. Сюрреализм в культуре Латинской Америки // Латинская Америка, 0,75 п.л. № 7, 2002.
10. Бесконечная печаль бесконечного человека, или C чего начинался Пабло Неруда // Латинская Америка, № 7, 2004. 1,2 п.л.
11. Висенте Уйдобро – паладин авангарда // Латинская Америка, 0,75 п.л. № 7, 2008.
12. Синтез или гетерогенность? К проблеме латиноамериканского культурогенеза // Искусствознание, 0,7 п.л. № 4, 2008.
13. Рецензия на к/т Германия. ХХ век. Модернизм. Авангард. Постмодернизм. Ред.- сост. В.Ф. Колязин // Вопросы литературы № 4, 2010. – 0, 5 л.
14. Составляет ли авангард стиль? // Искусствознание. № 1/2, 2011. – 1,2 п.л.
15. Традиция барокко в авангардном искусстве Кубы ХХ века // Латинская Америка, №8, 2011. – 0,5 п.л.
16. Сесар Вальехо / Висенте Уйдобро: Два створа латиноамериканского авангардизма // Латинская Америка №11, 2011. – 0,7 а.л.
17. Ретроспективизм авангарда первой трети ХХ века // Известия РАН, серия Литературы и языка. № 2, 2012. – 2 а.л.
18. Онтологизация знака в культуре авангарда // Вопросы философии,
№ 11, 2012.
19. Манифесты, программы, декларации испаноамериканского авангарда // Латинская Америка. № 1-2. 2013 – 1,2 п.л.
20. Авангард как пограничная форма культуры // Диалог со временем.
№ 42. 2013.
Основные работы по теме диссертации
1. Бразильский модернизм как зеркало русской революции // Латинская Америка, 1994, № 78 – 1 п.л.
2. К вопросу о самоидентификационных моделях латиноамериканской культуры // Iberica Americans. Механизмы культурообразования в Латинской Америке. М, 1994 – 1,2 п.л.
3. Вопрошание как форма культуры (об испаноамериканском модернизме) // там же – 0,7. п.л.
4. Латиноамериканский авангардизм: к типологии стиля // Латинская Америка и мировая культура. М, 1995 – 2 п.л.
5. Хосе Марти и парадигма самосозидания латиноамериканской культуры // Латинская Америка, 1995, № 9 – 0,8 п.л.
6. Термин и метафора // Российский литературоведческий журнал‚ 1996‚ № 7 – 0‚5 п.л.
7. К проблемам интерпретации латиноамериканской культуры //Латинская Америка‚ 1996‚ № 10 – 0‚7 п.л.
8. Инаковость латиноамериканской литературы: поэтика Лесамы Лимы // Латинская Америка № 8/9, 1997 – 0‚8 п.л.
9. Парадигма самосозидания латиноамериканской культуры (феномен Хосе Марти) /Iberica Americans. М., 1997. 1 п.л.
10. “Мир есть слово”: Колумбийская поэзия ХХ века // Латинская Америка, 1, 2 п.л. №8, 1998.
11. Авангард как исторический стиль // Творчество’98. 0,5 п.л.
12. Otredad de la cultura latinoamericana: poética de José Lezama Lima // Unión, Nº 33, 1998. 0,8 п.л.
13. Algunas notas sobre la vanguardia rusa y la latinoamericana // Cuadernos americanos, Nº 85, enero-febrero, 2001, México. 1 п.л.
14. Проза и поэзия Венесуэлы: опыт ХХ века // Латинская Америка (часть первая), 1 п.л. № 8, 2001.
15. Проза и поэзия Венесуэлы: опыт ХХ века // Латинская Америка (часть вторая), 1 п.л. № 9, 2001.
16. Más allá del Oriente y el Occidente ¿Identidad o mismidad? // Espiral, Nº 20 (enero-abril 2001), Universidad de Guadalajara, México. 1 п.л.
17. Algunas notas sobre la vanguardia rusa y la latinoamericana // Cuadernos americanos, Nº 85, enero-febrero, 2001, México. 1 п.л.
18. Латиноамериканский карнавал и проблема этнокультурной идентификации. / Праздник в ибероамериканской культуре. Iberica Americans. М., 2002. 1 п.л.
19. Авангард как стиль культуры // К/т “Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века”. М., 2002. 2,5 п.л.
20. Граница и пустота: к вопросу о семиозисе пограничных культур. 1 п.л. // Вопросы философии. М., 2002, № 11.
21. “Дом” Гарсиа Маркеса // Вестник РГНФ, 2002, № 4. 1,2 п.л.
22. Cintio Vitier: de la conciencia de la poesía a la poesía de la conciencia. // Temas. Nº33-34, 2003. – 1 п.л.
23. El Modernismo brasileño como espejo de la Revolucion rusa // Сaderno de Literatura e Cultura Russa. São paulo, 2004, № 1. – 1 п.л.
24. “Сто лет одиночества” 35 лет спустя // Вопросы литературы, № 1, 2004. 2 п.л.
25. К построению авангардистской картины мира // Вестник РГНФ, № 3, 2005. – 0,7 п.л.
26. Литература Кубы / История литератур Латинской Америки, т. IV – 4,5 п.л. М., 2004.
27. Литература Колумбии / История литератур Латинской Америки, т. IV – 4 п.л. М., 2004.
28. Литература Венесуэлы / История литератур Латинской Америки, т. IV – 4,3 п.л. М., 2004.
29. Пабло Неруда / История литератур Латинской Америки, т. V – 3 п.л. М., 2005.
30. Сесар Вальехо / История литератур Латинской Америки, т. V – 2,5 п.л. М., 2005.
31. O modernismo hispano-americano em correspondência tipológica com o simbolismo europeu ocidental e russo // Tipologia do simbolismo na cultura russa e ocidental, São paulo, Editora Humanitas, 2005. – 1,2 п.л.
32. Об одном авангардистском концепте: диссоциация/интеграция // Академические тетради, № 12, 2006. – 0, 4 п.л.
33. Доклад на европейской конференции «Интертекстуальность в культуре авангарда. Цитация и пародирование», организованной Отделом литератур Европы и Америки новейшего времени ИМЛИ РАН совместно с РГГУ. 2006 г. - 0,7 п.л.
34. Возможна ли формула авангарда? // Вестник РГНФ, № 3, 2007. – 0,7 п.л.
35. Диалектика авангарда // Литературная классика в диалоге культур. Выпуск I. М., 2008. – 2 п.л.
36. К вопросу о праздничной культуре Латинской Америки // Развлечение и искусство. Российская Академия наук. Федеральное агентство по культуре и кинематографии Российской Федерации. Государственный институт искусствознания. Алетейя. Санкт-Петербург, 2008.
37. Феномен сюрреализма в культуре Латинской Америки // Проблемы ибероамериканского искусства. Вып. 1. ГИИ. 2007. – 2 а.л.
38. А был ли синтез? // Iberica Americans. М., 2009. – 1 п.л.
39. Авангард как модель культуры // Сб. статей. Лики времени. М., 2009.
40. Авангард между Испанией и Латинской Америкой // Проблемы ибероамериканского искусства. Вып. 2. ГИИ. 2009. – 2,5 п.л.
41. Рождение авангарда из духа модернизма. - Доклад на международной Научной конференции «Лики ХХ века. Модернизм: метод или иллюзия?», посвященной памяти Л.Г.Андреева. МГУ им. М.В.Ломоносова. 18 июня 2009 г.
42. Авангардная картина мира // Культура и искусство, № 3, 2011. – 1, 3 а.л.
43. Функция мифа в культуре Латинской Америки. 1 п.л. // Миф и художественное сознание ХХ века. М., 2011.
44. Составляет ли авангард стиль // Теория художественной культуры. Вып. 14. М., 2012. – 1,2 л.
45. Нетрадиционность традиции в авангарде // Новые российские гуманитарные исследования. № 7, 2012. – 0,7 а.л.
46. От мистерии к цирку (театр авангарда первой трети ХХ века) // Художественная культура. Вып. 3. ГИИ, 2012.
47. Авангардный театр как модель эпохи (первая треть ХХ века) // Проблемы ибероамериканского искусства. Вып. 3. ГИИ. 2013. – 2 а.л.
48. Авангард: теоретические аспекты и ибероамериканские проекции // Проблемы ибероамериканского искусства. Вып. 3. ГИИ. 2013. – 1,5 а.л.
49. «Интертекстуальность как частный случай пермутации». Доклад. Международная научная конференция «Русский футуризм: к 100-летию альманаха “Пощечина общественному вкусу”. ИМЛИ РАН. 18-20 сентября 2012 г.
50. «Еще о пощечине». Доклад. Международная научная конференция «Русский футуризм: к 100-летию альманаха “Пощечина общественному вкусу”. ИМЛИ РАН. 18-20 сентября 2012 г.
Монографии
1. Поэзия Хосе Марти. Монография. М., 2002. 17 а.л.
Рецензия: Ветрова Т. портрет человека своего времени // Латинская Америка, № 1, 2003.
2. Монография на исп. яз.: poesía de José Martí. Centro de Estudios Martianos. La Habana, 2010.
3. Поэтика сверхпредельности. К интерпретации художественных процессов латиноамериканской культуры. Монография. Российская Академия наук. Федеральное агентство по культуре и кинематографии Российской Федерации. Государственный институт искусствознания. Алетейя. Санкт-Петербург, 2008. – 13,5 п.л.
Рецензии:
Субичус Б.Ю. По поводу «сверхпредельности: соображения и вопросы // Латинская Америка № 1, 2009.
Паниотова Т.С., Косьяненко Е.В. Гирин Ю.Н. ПОЭТИКА СВЕРХПРЕДЕЛЬНОСТИ. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2009. № 2. С. 154-155.
4. К/т «Авангард в культуре ХХ века (1900-1930). Теория. История. Поэтика». М., ИМЛИ РАН, 2010. В 2-х кн. Руководство проектом. Главы «Введение», «Системообразующие концепты культуры авангарда», «Проблема авангарда: содержание, границы, понятийный аппарат», «Авангард в Испанской Америке» (Всего - 15 а.л.)
Рецензии:
Паниотова Т.С.Авангард в культуре ХХ в (1900-1930 гг.) Теория. История. Поэтика. Под. ред.Ю.Н.Гирина ИМЛИ РАН, 2010 // Вестник РГНФ, №1, 2011.
Паниотова Т.С. Авангард в культуре ХХ века (1900-1930 гг.): Теория. История. Поэтика: в 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. – М.: ИМЛИ РАН, 2010. (Среди книг с Таисией Паниотовой) // Иностранная литература. 2011, № 6.
Шемякин Я.Г. Авангард как феномен «пограничья»: парадоксы рождения целостности в условиях доминантной многокультурности // Культура и искусство, № 4, 2011.
Шемякин Я.Г. Авангард как «пограничный» феномен. Взгляд латиноамериканиста // Латинская Америка, № 6, 2011.
Давыдов Д. (Книжная полка) // Новый мир, №10, 2011.
5. Монография «Картина мира эпохи авангарда». – 30 а.л. ИМЛИ РАН. 2013.