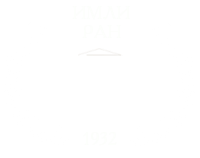Специальность 10.01.01 — русская литература
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
Москва
2008
Работа выполнена в Отделе русской классической литературы
Института мировой литературы им. А.М. Горького
Российской академии наук
Научный руководитель: доктор филологических наук Щербакова Марина Ивановна
Официальные оппоненты: доктор филологических наук Захаров Владимир Николаевич
кандидат филологических наук Смыслова Ольга Николаевна
Ведущая организация: Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова
Защита состоится «5» июня 2008 года в 15.00 на заседании Диссертационного совета Д 002.209.02 по филологическим наукам при Институте мировой литературы
им. А.М. Горького Российской академии наук
по адресу: 121069, Москва, Поварская ул., д. 25а.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.
Автореферат разослан «29» апреля 2008 года.
Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат филологических наук О. В. Быстрова
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования определяется тем, что Ф.М. Достоевский давно уже и по праву занимает свое место в ряду тех, кого Д.С. Мережковский назвал «вечными спутниками» культурного человечества. Системное осмысление всего наследия писателя обеспечивается специальными исследованиями отдельных его произведений и само стимулирует новые прочтения разных по масштабу и специфических в жанровом отношении текстов. К числу таких созданий Достоевского, внимание к которым не только не ослабевает, но, напротив, все более возрастает, относятся, безусловно, и «Братья Карамазовы»[1].
Сегодня для исследователей стало аксиомой, что в лице Достоевского мы имеем не просто художника-философа, но именно мыслителя религиозного. Художественный мир писателя как система идейно-эстетических координат укоренен в метафизических смыслах Библии, которая является для писателя важнейшим источником большинства его идей и образов. Сказанное в полной мере относится и к «Братьям Карамазовым», «величайшему роману всех времен и народов»[2], а в рамках нашего специального интереса — к образу Ивана Карамазова, к этой, по слову Н. Бердяева, «мировой загадке», до сих пор остающейся «открытой для современного читателя и для всех нас» [3].
Степень изученности проблемы
В достоеведении давно уже сложилась устойчивая традиция соотносить образ Ивана Карамазова с целым рядом масштабных, знаковых персонажей мировой литературы, поверять их признанным достоинством истинное значение открытий Достоевского. Впервые такой подход заявил себя в начале XX века в работах представителей русской философской критики. Первоначально основной тон здесь был задан С.Н. Булгаковым, который в своей принципиально важной для нашей темы статье «Иван Карамазов в романе Достоевского “Братья Карамазовы” как философский тип» писал: «Фауст и Карамазов находятся в несомненной генетической связи... Я обдуманно делаю это сопоставление и считаю его вполне законным»[4]. Позднее мысль об Иване Карамазове как фаустианском типе была подхвачена и развита другими исследователями, в частности Н. Старосельской и Г.К. Щенниковым. Со временем горизонты сопоставительной аналитики стали расширяться. В.И. Этов находит уже сходство Ивана с Гамлетом, Н.Ефимова и Г. Померанц — с библейским Иовом[5]. Г.Б. Пономарева полагает, что главным следует считать сходство героя Достоевского с житийным персонажем и постулирует «житийную основу образа» Ивана[6]. В. Набоков находит истоки «литературной родословной»[7] героя в древнерусском фольклоре и сравнивает его с Иванушкой-дурачком.
Все перечисленные сравнительно-исторические версии представляются нам вполне законными и продуктивными. Но ими, на наш взгляд, проблематика образа Ивана, его огромный художественный потенциал конечно же не был исчерпан.
Дальнейшее погружение в загадочные глубины «Братьев Карамазовых» невозможно, мы полагаем, без включения в традиционную систему методик и технологий исследования новой составляющей, а именно: без библейского «просвечивания» текста романа и всех характеристик его героев. Само по себе это заявление не претендует на новизну. О библейских «корнях» романа говорят сегодня многие исследователи. Но у большинства из них такого рода указания возникают не на магистрали их специальных интересов, а как «боковая», хотя и непременная дань новому обыкновению; дань необходимая, однако не обязывающая к особому, сосредоточенному углублению в эту специфическую область. В результате мы имеем дело пока только с некими общими ориентировками, декларациями о намерениях, не приводимыми, однако, в сколько-нибудь обстоятельное исполнение.
Научная новизна диссертации. В современной литературе о Достоевском практически отсутствует существенное внимание к аналогии между Иваном Карамазовым и библейским Люцифером. В диссертационном исследовании предпринята первая попытка осмысления образа Ивана Карамазова как аллюзии на «первоангела Денницу». Полагаем исключительно важным рассмотреть в библейском ключе смысл и роль этого образа, постичь природу, характер мучительных исканий и борений «страдающего неверием атеиста» (15, 198)[8] из Скотопригоньевска.
Практическая реализация этого намерения обязывает к поиску новых технологий исследования и, в первую очередь, к уяснению аллюзийной природы романа. Ранее такие последовательные и развернутые попытки системного выявления (дешифровки) и классификации библейских аллюзий не предпринимались в отечественном достоеведении в целом, не был поставлен и специальный вопрос о роли и функции библейских аллюзий в структуре «Братьев Карамазовых». В центре настоящей работы именно эти особенности поэтики итогового романа.
Объектом исследования в настоящей работе является прежде всего сам роман «Братья Карамазовы». Кроме того, в поле зрения оказываются философские и эстетические суждения писателя, обнаруженные в публицистике, литературно-критических работах, в эпистолярном наследии писателя, записных книжках, разных тетрадях и подготовительных материалах.
Предмет исследования — трагический образ Ивана Карамазова в аллюзийных измерениях и потенциях; диалектика «бунта» этого люцеферианца ХIХ века.
Цель работы по необходимости триедина. Она предполагает:
1. Осмысление феномена интертекстуальных связей «Братьев Карамазовых» с текстом Библии как целостной системой.
2. Обоснование люциферической прототипичности образа Ивана Карамазова.
3. Уяснение трагического характера богоборчества «современного отрицателя, из самых ярых» (30/1, 68).
В движении к названным целям в работе были поставлены и решались следующие задачи:
1. Выявить и продемонстрировать фронтальное присутствие и функционирование библейских аллюзий на всем пространстве итогового романа.
2. Продемонстрировать методологию и технику использования Достоевским библейских аллюзий.
3. Квалифицировать и классифицировать библейские аллюзии, встречающиеся в тексте «Карамазовых».
4. Уяснить, как трансформируется в художественном мире «Братьев Карамазовых» древний библейский миф о Люцифере.
5. Привести интертекстуальные свидетельства, подтверждающие люциферическую прототипичность образа Ивана Карамазова.
6. Показать, что Иван Карамазов — Люцифер Нового времени — является существом трагическим, метафизически сложным, многосоставным, отнюдь не сводимым в своем богоборчестве к маниакальному демонизму и сатанизму.
7. Наконец, обосновать мысль о том, что только в логике заявленного представления о степени родства Ивана с Люцифером мы сможем более глубоко и адекватно осмыслить и охарактеризовать природу трагического бунта «страдавшего неверием атеиста», страдавшего, но не погибшего окончательно и бесповоротно.
Теоретико-методологическая основа диссертации. В диссертационном исследовании использовалась комплексная методология, сочетающая историко-литературный и сравнительно-исторический методы анализа. Особое значение имели достижения современной компаративистики, последних ее десятилетий. Сосредоточившись на осмыслении аллюзийной природы «Карамазовых», мы нашли необходимым использовать в своей работе и многие конкретные методики и технологии исследования текста, сочетать, в частности, традиционный для литературоведения интертекстуальный подход со столь же традиционным, но уже для богословия экзегетическим. Первый обязывал рассматривать роман «Братья Карамазовы» Достоевского как своеобразную мозаику разного рода цитаций, второй — погружаться в текст Библии, чтобы выявлять специфические — религиозно-философские — смыслы романного повествования.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут способствовать более глубокому изучению творчества Ф. М. Достоевского. Выводы, результаты и материалы исследования могут быть использованы при подготовке как общих, так и специальных курсов по истории русской литературы.
Научная апробация. Основные положения работы были изложены в докладах, прочитанных на международных ежегодных научных конференциях «Достоевский и мировая культура» в Санкт-Петербурге (1993, 1997, 1999, 2003, 2006), на «Славянских чтениях» в Кишиневе (Славянский университет Республики Молдова), в 2005 г., на международных Достоевских чтениях «Достоевский и современность» в Старой Руссе (2007) и на «Юбилейных Достоевских чтениях», посвященных 185-летию со дня рождения писателя, прошедших в Оше (Киргизия) в 2006 году, а также отражены в статьях, опубликованных на страницах научной периодики, научных сборников и коллективных трудов.
Структура исследования обусловлена заявленными целями и методологией работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, разбитых в свою очередь на разделы и подразделы, а также заключения и библиографии.
Первая глава представляет собой своего рода демонстрацию того, что аллюзийность есть общий, устойчивый, сквозной, тотальный принцип повествования в «Братьях Карамазовых», что собственно библейские аллюзии покрывают все его пространство и участвуют в построении практически всех образов романа, разных подробностей сюжета. В режиме преамбулы заявленный показ предваряется реферативным обзором и учетом важнейших определений и квалификаций самого понятия «аллюзия».
Во второй главе исследование сосредоточено на своем особом предмете, на главном для данной темы герое — Иване Карамазове. Здесь представлены некоторые конкретные наблюдения и определенные толкования типологических характеристик «страдающего неверием атеиста». Дано обоснование тому, что этот несчастный герой, при всем своем конкретно-историческом, онтологическом своеобразии, находится в принципиальном родстве с библейским Люцифером.
Наконец, в третьей главе специально и обстоятельно рассмотрена диалектика внутреннего мира Ивана Карамазова, его смятений, борений и страданий, обещающих все же разрешиться в перспективе отнюдь не заведомо безнадежной. Обращение именно к диалектике романного повествования в «Братьях Карамазовых» принципиально отличает третью главу от предшествующей. Суть теоретико-методологического и конкретно-технологического продвижения заключается в том, что если во второй главе двойственная природа персонажей освещена лишь «плоскостно», в дуалистических описаниях названной двойственности, то в третьей осуществлена попытка вернуться к действительному «объемному», трехмерному облику реально состоявшегося повествования. В этой трехмерности (объеме) художественного пространства и являет себя именно диалектика образных построений и аналитик Достоевского, суть которой по определению тройственна, а не дуалистична (двойственна).
В заключении подведены некоторые итоги предпринятого исследования, указаны открывшиеся перспективы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются его цели и задачи, основные методологические принципы, его новизна, практическая и теоретическая значимость.
Первая глава «Библейская аллюзия: ее природа и место в романе
Ф. М. Достоевского “Братья Карамазовы”» посвящена, во-первых, обозрению накоплений относительно природы и идейно-художественных возможностей аллюзии, которые мы нашли в трудах самых разных теоретиков и историков литературы; во-вторых, выявлению и демонстрации широкого присутствия библейских аллюзий в тексте итогового романа Достоевского. Глава состоит из двух разделов.
В первом разделе «1.1. Природа аллюзии: семантические границы понятия» мы сосредоточились на осмыслении понятия «аллюзия». Здесь показано, что соответствующий термин давно вошел в систему общепризнанных и постоянно работающих в литературоведении категорий и обрел в современной науке о литературе свой вполне определенный статус. Однако в ходе нашего исследования мы обнаружили и засвидетельствовали, что термин «аллюзия», как это часто бывает в самых разных областях науки, не приведен пока к необходимой и достаточной семантической определенности, устойчивой внятности и, что особенно важно, внутренней системности, которая придала бы ему органичную целостность. Словарные расшифровки понятия «аллюзия», как правило, весьма скупы, недостаточно четки или, напротив, отличаются сомнительной «ясностью», обретаемой за счет упрощения, сужения понятия, одномерности его характеристик[9]. С другой стороны, определения аллюзии выглядят порой схоластичными и, в силу той или иной поверхностности, однообразными.
Сказанное, тем не менее, не означает, что в настоящем диссертационном исследовании не на что было опереться. В ходе фронтального анализа разнообразных толкований данного предмета установлено, что при всех различиях в конкретике оценок и суждений у исследователей нет «посягательств» на сущностные границы важного для нас понятия. Разночтения в «разбегающихся» определениях «аллюзии» касаются, как правило, только частностей, именно частностей, расхождения в которых хотя и не обеспечивают принципиального продвижения вперед, однако же не лишают нас некоей общепризнанной стартовой базы. Был составлен некий теоретический плацдарм, с которого оказалось возможным начать наступление на специфический романный материал «Братьев Карамазовых», тотально аллюзированный в библейском коде.
Определившись теоретико-методологически, мы приступили во втором разделе «1.2. Формы интертекстуального взаимодействия “Братьев Карамазовых” с текстом Священного Писания» к конкретным наблюдениям над тем, как именно связан и взаимодействует текст «Карамазовых» с текстом Библии. Целесообразным оказалось начать с фронтального обозрения библейских аллюзий в романе с тем, чтобы, во-первых, выявить и продемонстрировать постоянное их присутствие в тексте Достоевского и, во-вторых, попытаться описать и классифицировать многообразный материал в логике той типологии, которая сегодня уже наработана наукой. Сам текст «Карамазовых» побуждает держать в уме три основных вида интертекстуальных связей в нем, три типа параллелей, а именно: вербальные, тематические и структурные.
Таким образом, описание и последующий анализ библейских аллюзий, обнаруженных на самых разных страницах романа, позволили решительно утверждать: библейские аллюзии в итоговом романе Достоевского не одна из многих подробностей, примет поэтики его, а нечто гораздо более принципиальное. Постоянное присутствие и «работа» библейских параллелей в тексте романа «Братья Карамазовы» — это системообразующая константа всей поэтики итогового романа Достоевского. Писатель делает в нем на библейские аллюзии главную ставку, видя в названных параллелях безальтернативный для себя механизм высокой поверки и санкционирования всех своих глубоких раздумий, поисков и прозрений.
Во второй главе — «Иван Карамазов и библейский Люцифер: типологическое родство в метафизических параллелях: pro et contra» —после того как удалось убедиться, что библейские аллюзии участвуют в характеристиках самых разных ситуаций и самых разных персонажей итогового романа Достоевского, мы приступили к рассмотрению библейских аллюзий, повсеместно «сопровождающих» в тексте Ивана Карамазова, более того, прямо «участвующих» в порождении и развитии сложных характеристик его личности и судьбы. Иначе говоря, сосредоточились на свидетельствах родства мрачного героя «Братьев Карамазовых» именно с ветхозаветным Люцифером.
Между тем наше намерение оглядываться в характеристиках молодого парадоксалиста на его библейского предшественника не могло быть осуществлено сколько-нибудь определенно, конкретно без решения другой задачи. Библия, как известно, весьма скупа в фактографии, касающейся Люцифера. С этим, как нам кажется, и связано то неблагополучие, о котором говорилось в первой главе настоящего исследования, когда высказывалось возражение против слишком прямого отождествления Ивана Карамазова с сатаной. Удалось убедиться в возможности и продуктивности разработок косвенных свидетельств Библии о персонажах, которых Писание не удостоило прямых и развернутых характеристик. Прибегнув к помощи накопившихся в современном богословии знаний, мы пришли к реконструкции того, что в самом Священном Писании уведено в глубокий симфонический подтекст. Имеется в виду два фрагмента текста, встречающихся в книгах древних пророков Исаии (гл. 14:12—15) и Иезекииля (гл. 28:12—19).
Обретя при «содействии» названных текстов уверенность в том, что сатана не сразу стал абсолютным злом (многочисленные указания на достоинства Люцифера находятся и в трудах Отцов Церкви), мы получили достаточные основания возразить против традиционно-инерционного представления о бунтарстве Ивана Карамазова как о проявлении вульгарного сатанизма. Разумеется, такой поворот стал возможным только после того, как было проведен обзор библейских аллюзий в романе. В конкретных наблюдениях и комментировании своих иллюстраций мы руководствовались необходимостью рассмотреть типологические параллели, во-первых, не в одной лишь черно-белой гамме, во-вторых, не в статике лишь, а и в динамике. В логике названных установок мы отметили родство Ивана Карамазова не только и не столько с сатаной, сколько с Люцифером. В этом пункте мы существенно расходимся с давно сложившейся традицией, с преобладанием обличительных по преимуществу характеристик в разговорах о беде среднего из братьев Карамазовых. Люциферическое «просвечивание» внутреннего мира Ивана помогло уяснить трагическую, а не вульгарно-кощунственную природу его бунтарства.
В первом разделе «2.1. Иван Карамазов как аллюзия на Люцифера: приметы родства в статуарных констатациях» осуществлен переход к непосредственным наблюдениям, к уяснению степени и смысла принципиальных сходств между Иваном и Люцифером. Обозначены общие контуры характера Ивана Карамазова, психо-эмоциональный состав его личности. Едва ли не самое сильное впечатление производит на читателя гордость Ивана. Например: «Сам Иван… даже и попытки не захотел тогда сделать списаться с отцом, — может быть, из гордости, из презрения к нему…» (14, 15). Иван «столь гордый и осторожный на вид»(14, 16). Иван «горд… всегда добудет себе копейку…» (14, 16). «Муки гордого решения… Или восстанет в свете правды, или… погибнет в ненависти» (15, 89).
Характеризуя своего героя как человека гордого, Достоевский вложил в это определение именно тот смысл, который слово «гордость» имело в его время. В словаре Даля (1880) «не приводится ни одного значения слова „гордость“ хоть с каким-нибудь мало-мальски положительным оттенком»[10].
В Священном Писании понятие «гордость» предстает в системе разных ситуаций очень сложным и многозначным. Это и «тщеславие», и «надменность», и «высокомерие». Указывая на это обстоятельство, напомним, что в Библии слова «гордость» и «гордыня» — синонимы, и никогда не используются в положительном смысле[11].
Отмечены и другие «измерения» личности Ивана.
Ум и ученость: «Впрочем, о старшем, Иване, сообщу лишь то, что… стал он обнаруживать блестящие способности к учению… и уж в этом одном молодой человек оказал всё свое практическое и умственное превосходство…» (14, 15). «И все ты о том, что я глуп. Но Бог мой, я и претензий не имею равняться с тобою умом» (15, 82). «Что же касается Ивана, то ведь я же понимаю, с каким проклятием он должен смотреть на природу… да еще при его-то уме!» (14, 108).
Иван Карамазов действительно превосходит своих братьев не только образованностью, эрудицией, но и красотой, впечатляющей силой своего ума, которым он, безусловно, дорожит. Альбер Камю тонко заметил: Иван «отказывается отречься от царственной власти ума»[12]. Как и на Люцифере, на загадочном «сфинксе» Скотопригоньевска лежит для окружающих «печать совершенства… мудрости, венец красоты» (Иез 28:12). Дмитрий в разговоре с Алешей с полным основанием подчеркивает в среднем брате нечто особенное: «Иван высший над нами, но ты у меня херувим» (15, 34). К сожалению, после трагедии в Скотопригоньевске, как только обнаружилось, «нашлось» в нем «беззаконие», Иван, если воспользоваться определением Иезекииля, уже не «помазанный херувим» (Иез 28:14, 15).
Высокомерие и презрительность: «Иван высокомерен» (14, 123). «Иван Федорович на нас всех усмехается» (14, 64). «Презрительны твои глаза… ты себе на уме приехал» (14, 125). «Я подозреваю, вы просто потешаетесь, Иван Федорович» (14, 59).
Способность к обольщению ближних: «И чем только этот Иван прельстил вас всех, что вы перед ним благоговеете» (14, 75). Алексей Федорович — «это… юноша благочестивый и смиренный, в противоположность мрачному растлевающему мировоззрению его брата» Ивана (15, 127). Григорий «о покойном Смердякове выразился… что его безбожеству Федор Павлович и старший сын учили» (15, 97).
Противостояние Богу, «бунт»: «Нет, нету Бога… нет и бессмертия… никакого… совершенный нуль» (14, 123). «Разрушить в человеке идею о Боге» (15, 83) — так определяет настроение и намерения Ивана таинственный «гость». «Иван не Ракитин, он таит идею. Понимает про гимн и Иван, ух понимает, только на это не отвечает, молчит. Гимну не верит» (15, 32, 35).
Эгоцентризм составляет нерв всех рефлексий Ивана Карамазова: «И пока я на земле, я спешу взять свои меры» (14, 223); «Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии отказываюсь» (14, 223). «Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей…» (14, 223). «Не хочу, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем… Не смеет она прощать ему!» (14, 223).
На данном этапе исследования подведены предварительные итоги, в негативном плане представлена некоторая целесообразная условность, самые резкие и очевидные приметы родства Ивана Карамазова с Люцифером.
Второй раздел «2.2. Прототипичность Ивана Люциферу в деструктивных и созидательных интенциях» посвящен другому важному аспекту нашего исследования. Представив в предыдущем параграфе вполне определенный и конечно же условный ход по преимуществу негативной характеристики Ивана Карамазова, мы не ставили вопрос, насколько такое понимание образа и роли Ивана определяет их действительную природу и смысл. Между тем образ Ивана (как практически все у Достоевского) диалектически «объемен» и внутренне невообразимо сложен и противоречив (положительно, с нашей точки зрения, противоречив). В логике реального изложения материала приходится учитывать условную односторонность, отталкиваясь от которой, и можно утверждать, что Достоевский был далек от того, чтобы сводить смысл образа несчастного атеиста к какой бы то ни было готовой формуле. Такое заключение подтверждается одним исключительно важным суждением самого писателя. Речь идет о «Вступительном слове…» Достоевского перед студентами Санкт-Петербургского университета. Перед тем как прочитать вслух «Великого инквизитора», писатель дал следующую характеристику Ивану: «Один страдающий неверием атеист в одну из мучительных минут своих сочиняет дикую, фантастическую поэму...» (15, 198). Достоевский прямо называет своего героя атеистом и этим как будто бы определенно (в системе своих ценностей и ориентаций) умаляет масштаб его личности. Но впасть в такую однозначность он вовсе не был намерен. Поэтому термин «атеист» художник принципиально обременил эпитетами весьма драматическими, чтобы не сказать трагическими: Иван для автора атеист именно страдающий. Заметим, что это суждение автора о своем герое, как правило, невольно уплощается в «азартных» его эксплуатациях. Слово «атеист» заслоняет для многих другие, притом предваряющие его, характеристики.
Именно с этим, с такими предустановками внимания, имеем мы нередко дело, когда встречаемся с по-своему убедительными, во всяком случае, заразительными интерпретациями образа и судьбы Ивана Карамазова, героя, который давно уже обрел в критике и литературоведении некогда сложившуюся и со временем устоявшуюся более чем определенную репутацию. Иван Карамазов — «демониакальный философ»[13]. Названная квалификация и теперь не просто упоминается, а с заведомой уверенностью эксплуатируется как неоспоримая в исследованиях самых разных, в том числе весьма даже известных и авторитетных достоеведов[14]. Наиболее впечатляющими выглядят, например, слова французского академика Анри Труайя, который так характеризует богоборца из Скотопригоньевска: «Иван Карамазов — одно из воплощений дьявола». Почти в одно с А. Волынским время и С. Н. Булгаков писал, что «тот Иван, которого мы видим в романе, не таков, каков он есть на самом деле»[15]. Для русского философа-богослова Иван отнюдь не демониак и не сатанист только.
Между тем для понимания иного подхода к герою значимой является встреча Ивана с Алешей, произошедшая в трактире «Столичный город», где и прозвучал знаменитый дискурс «Бунта» «ученого атеиста». Алеша давно хотел познакомиться с братом и рассеять свои тревожные сомнения, порожденные нежеланием последнего сойтись с ним. «Он совершенно знал, что брат его атеист. Презрением этим, если оно и было, он обидеться не мог, но все-таки с каким-то непонятным себе самому и тревожным смущением ждал, когда брат захочет подойти к нему ближе» (14, 30).
Встреча состоялась, и Алеша делает первое открытие: он не видит в брате презрения, равнодушия или, уж тем более, воплощения зла. Трудно согласиться с В.Е. Ветловской, что Алеша (и читатель), слушая Ивана, «слушает самого дьявола»[16]. Послушник Скотопригоньевского монастыря видит в Иване, напротив, не просто нормального молодого, двадцатитрехлетнего человека, а прямо-таки «свежего, славного мальчика, желторотого, наконец, мальчика» (14, 209).
В приведенном отрывке имеются достаточные указания на то, что Иван сейчас свободен от гордыни и сердце его захвачено прежде всего любовью. Иван всем сердцем располагается к Алеше, рассказывает ему о том, о чем он думал, сидя в трактире, не ожидая увидеться с ним: «Я сейчас здесь сидел и знаешь что говорил себе: не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы разочарования — а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не выпью…» (14, 209).
Не веря в общий «порядок вещей», Иван, «вопреки логике», все-таки хочет жить и живет. Он восхищается миром, его красотой; и не только «голубым небом» и «клейкими листочками», но и «иным человеком», которого «не знаешь за что и любишь»; он в состоянии даже оценить «иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцем» (14, 210). Много раз спрашивая себя, «есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную, может быть, жажду жизни», Иван сам же и отвечает себе: «…кажется, нет такого… до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость — всякое разочарование, всякое отвращение к жизни» (14, 209).
Иван — гражданин мира. Ему дорога не только Россия, но и Европа: «Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ним гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними…» (14, 210).
В разговоре с Алешей выясняется, что Иван не оспаривает бытие Божие; он не намерен погружаться в бездну схоластических аксиом «современных… русских мальчиков»; все они, на его взгляд, «сплошь выведены из европейских гипотез» (14, 214). Герой сразу объявляет: «принимаю Бога прямо и просто». И добавляет: «Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать, что не от мира сего…» (14, 214).
Обратим внимание на неслучайную оговорку: «смиренно сознаюсь». Именно «смиренно». Причем здесь мы хотим особо подчеркнуть, что смирение Ивана отнюдь не то, которое паче гордости. Он и в самом деле спокойно, честно сознает свою малость перед грандиозным и загадочным мирозданием. Однако при этом он делает существенную оговорку: «Ну так представь же себе, что в окончательном результате я мира этого Божьего — не принимаю и хоть и знаю, что Он существует, да не допускаю его и вовсе…» (14, 214)
Мы выявили, таким образом, первую антитетичную ипостась души Ивана, оппозицию в ней, в душе героя, его собственной гордыне. Он, мы помним, гордец, конечно; но он жаждет, самому себе в том не признаваясь, и смирения. Весьма примечательно в этом смысле то, что сравнение с «желторотым птенцом» и самому Ивану приходило на ум. Если иногда он мог думать о себе гордо, как об орле, парящем над миром (15, 88), то теперь он видит себя и «желторотым птенцом», может быть, даже «чахоточным сопляком-моралистом» (весьма ценно то, что жестко-насмешливые слова принадлежат самому Ивану).
Итак, Иван Карамазов, по крайней мере, в одной позиции, отнюдь не сводим к негативной только характеристике: гордец. В предыдущем разделе говорилось о том, что Иван безмерно возгордился своим умом и ученостью. Тому было найдено много свидетельств. И, тем не менее, это не окончательный «приговор». В тексте романа найдены обратные указания. Напомним, в частности, очевидные «шатания» в мыслях у Ивана. В его разговорах с Алешей обращает на себя внимание как характерная особенность личности «атеиста» сбивчивость суждений Ивана, за которой легко угадывается, что он вовсе не всегда и не непременно настаивает на том или ином своем соображении как на окончательно для него решенном. Более того, он сплошь и рядом «уступает» брату, обнаруживая готовность принять во внимание чужое мнение, а вовсе не абсолютизируя плоды своего собственного умствования и ученых накоплений.
По завершении обзора «светлых» сторон личности Ивана сформулирован главный вопрос: к чему относятся «pro» и «contra», обозначенные в названии второй главы? Относится ли «pro» только к первому ее разделу, а «contra», соответственно, ко второму? Разумеется, нет. Иван параллелен Люциферу не только в отрицательных, но и в положительных характеристиках. Говоря «pro», следует держать в уме фронтальный, хотя и внутренне противоречивый, параллелизм двух фигур, представленный всей суммой наблюдений. «Contra» выводит на вопрос (ответ на который содержит третья глава настоящего исследования) является ли заявленный параллелизм абсолютным.
Глава 3. «Диалектика характера Ивана Карамазова и трагедийная природа его “бунта”: от статики к динамике».
В первом разделе настоящей главы — «3.1. Несколько вводных замечаний» — приведены дополнительные свидетельства интертекстуальной связи. Решено, что уяснение степени действительного (не абстрактного) сходства между героем Достоевского и библейским героем невозможно на уровне только общих указаний на психо-эмоциональные константы (это будет законно лишь в самой общезнаменательной логике). В «Братьях Карамазовых» же не просто интересно, а насущно необходимо посмотреть на трагический материал повествования именно в люциферианских измерениях. В развитие заявленной мысли исключительно важно представить ряд новых интертекстуальных свидетельств, которые подтверждали бы безусловную библейскую прототипичность образа Ивана Карамазова, люциферианца ХIХ века. Самые впечатляющие свидетельства такого рода обнаружены в IХ главе одиннадцатой книги романа («Чёрт. Кошмар Ивана Карамазова»).
В черновой рукописи «Братьев Карамазовых» писатель среди разного рода заметок и мыслей сам последовательно — более 50 раз! — упоминает рядом сатану и Бога. Более того, разрабатывая план будущего романа, художник намечает даже и нечто вроде названия будущей главы, обозначая ее римской цифрой: «VI. Сатана и Бог» (15, 336). Мы полагаем, что это не просто случайная фраза, а некая концептуальная формула. Буквально несколько строк ниже Достоевский еще раз «проговаривает», уточняет для себя самого: «Главное (III), cатана и Бог…» (15, 336). Вне сомнений, это говорит о том, что автор итогового романа, постигающий драму «нестройного семейства» Карамазовых, держит в уме и Книгу Иова, в пространстве которой Бог и сатана стоят у истоков разыгравшейся трагедии в семействе страдальца из земли Уц. Эта формула не случайна еще и потому, что в сценарии будущей IХ главы, посвященной кошмару Ивана Карамазова, расписанной подробно вчерне, монологи произносит именно сатана, а не черт. Но в тексте романа писатель все-таки предпочел «…черта, а не Сатану с опаленными крыльями» (30/1, 205), как сам это оговорил в письме к Любимову. Но, как ни парадоксально, черты библейского сатаны остались даже в убогом и «мелком черте», ставшем двойником Ивана. Заметим, однако, что оба эти существа — сатана в Библии (в первой ее части) и черт в тексте «Карамазовых» — не являются воплощением абсолютного зла. И в этом нет произвола со стороны Достоевского-художника. Древнееврейское слово «сатан» переводится как «противник», «враг», «наветник»[17]; оно обозначает, главным образом, отступника, соперника, оппонента и не является самостоятельной злой силой. Собственно, таковым мы видим и черта Достоевского. «Неожиданный гость» Ивана признается, что «искренно добр» и «довременным назначением… определен отрицать», но «к отрицанию совсем не способен». Более того, он несчастен и видит себя «каким-то призраком жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам подзабыл наконец, как и назвать себя» (15, 77).
Означенное сходство дает возможность высказать гипотезу, что образы сатаны и черта, используемые Достоевским, образуют некое ассоциативное поле, сопряженное с библейским контекстом и, главным образом, с Люцифером.
Таким образом, у нас есть основания полагать, что текст IХ главы «Карамазовых», обрастая в сознании читателя косвенными библейским значениями, несет в себе некое ассоциативное пространство, прототипом которого является «довременный» библейский сюжет о Люцифере.
Возвращаясь теперь к значимым подробностям текста «Карамазовых», заметим, что Достоевский не просто «вообще» отсылает нас к миру библейских образов; он вводит в мыслимое им интертекстуальное пространство рассматриваемой главы вполне определенный мотив «бунтующего своеволия», обязывая тем самым читателя осмысливать инвективы Ивана Карамазова в контексте именно «бунта» Люцифера против Творца, а не простого несогласия.
Принципиально важным в развитии мотива бунта в данной главе является то, что обескураженный черт (а по сути сам Иван) сетует на то, что ему не открыли некий важный, провиденциальный «секрет». Мысль о таком «секрете» терзала когда-то и самого Люцифера, который восстал против Бога как раз потому, что Всевышний нечто утаил от него, не посвятил своего «помазанного херувима» в замыслы Троицы относительно судеб великой Вселенной и земного бытия, не раскрыл ему некий судьбоносный, провиденциальный «секрет». Как тварное существо «осеняющий херувим» не был равен Богу Отцу и потому он не мог быть посвящен во все замыслы Творца, не мог по самой своей природе «вместить», постичь тайны «троичного Божества».
В той же люциферовой логике, хотя и в другие времена, впал в свое особое негодование, решился на собственный «бунт» против Бога и Карамазов Иван. Страдающий от своего неверия, молодой человек предъявил претензию самому Создателю: герой Достоевского нашел несправедливым общий замысел Творца, существо которого («секрет») не раскрывается в исторически случившейся реализации этого замысла, в силу чего последний и воспринимается смятенным сознанием героя «бесовским хаосом», а отнюдь не божественной гармонией. Этот ключевой архетипический мотив о некоем провиденциальном «секрете» (подразумеваемый в сюжете о «бунте» Люцифера) вполне уже явно и осязательно звучит в горьких словах-признаниях черта, alter ego Ивана: «Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть…» (15, 82). Это красноречивое признание черта-Ивана убеждает нас в том, что Иван болен люциферическим именно комплексом: он, как и библейский его «праотец», не посвящен в замыслы Троицы, а ему очень хочется, ему прямо-таки необходимо непременно знать, «какие там (в запредельном, божественном мире.— В. Л.), — по словам черта-Ивана, — обо всех этих предметах понятия ходят» (15, 79).
Указывая на это обстоятельство (сокрытие Богом секрета) как на первопричину и, главное, оправдание бунта, считаем необходимым оговорить, что и в тексте «Братьев Карамазовых» о «секрете», мучившем Ивана, говорится Достоевским тоже имплицитно и прикровенно. Но в качестве промежуточного итога следует подчеркнуть, что в этой части своей, в этих измерениях бунт Ивана не выглядит вздорным. Как и Люцифер, Иван по-своему справедливо хочет понять замысел Божий о мире и человеке, уяснить себе провиденциальный смысл всего того, что происходит в реальной действительности.
В разделе «3.2. Явление Ивана Карамазова в “мирском граде” Скотопригоньевске» обоснована следующая мысль: при всем том, что для Достоевского ветхозаветное предание о светоносном ангеле стало своеобразной «матрицей», которая была им востребована, писатель ни в малейшей степени не изменил себе как художнику; библейский сюжет не только не заслонил, но и не подавил собой обыкновенное, так сказать, традиционно-реалистическое повествование о жизни самых что ни на есть натуральных людей. Автор «Братьев Карамазовых» восходил на высоты своих обобщений не в обход живого контакта с бесконечной пестротой различных свидетельств о реальной жизни и трагедиях.
В согласии с так понимаемой логикой творческих устремлений писателя представилось неуместным преждевременно, форсированно демонизировать фигуру Ивана Карамазова. Прежде всего учтены традиционные наблюдения над вещами достаточно простыми и как будто бы совершенно очевидными. Что ни говори о фундаментальности романа, а в нем рассказывается все-таки вполне житейская история.
Ивану случилось приехать в Скотопригоньевск не по собственно философской какой-то, а по вполне житейской надобности. Ученый сын собирался помочь брату Дмитрию в его тяжбе с отцом. Поэтому и начинается рассказ об этом деле в тонах совершенно обыденных. А здесь, не сумев уйти от себя, герой вынужден был «попроверять» уже до того возникшие представления по давно мучившим вопросам, то есть выказать себя невольно человеком идеологическим. Иван и не для того именно приехал, чтобы совратить кого-то, сломать. Но это неизбежно случилось. Правда, случилось это не вдруг, а постепенно, и делалось, по крайней мере, поначалу нечаянно, без априорного намерения.
Но едва ли не сразу повествование начинает напрягаться для читателя какой-то странной жутью. Повествователь «забегает вперед» (во времени читателя) и не может удержать в себе чувства ужаса, которым для него обвеяно с самого начала рассказа все случившееся, страшный смысл которого уже открылся для него к началу диалога с читателем, где он, повествователь, силится, но не может выдержать тон объективного, бесстрастного летописца.
Повествователь по-своему прав: он не придумал, а всего лишь запоздало догадался о том, что в истории, которую он теперь излагает, в самом деле всё, вплоть до мельчайших подробностей, было не просто не случайно, а прямо-таки сакраментально предопределено. Сам Достоевский смотрел на дело именно так: всё роковым образом идет в современном мире к катастрофе — не больше и не меньше. Люциферическим аллюзированием, подсказанным и повествователю, и читателю, писатель-метафизик повышает градус «эсхатологического напряжения» судьбы героя, бредущего к своей неминуемой Голгофе, и таким образом помогает отнюдь не поверхностно, не эмпирически только, а именно в логике «реализма в высшем смысле» воспринимать и оценивать все происходящее.
Для большинства действующих лиц скотопригоньевской трагедии Иван Федорович — личность хотя и загадочная, но отчасти объяснимая. Многим героям романа удается верно уловить некоторые сущностные черты его характера. Так, циник Ракитин, не лишенный проницательности, видит в Иване роковое существо и по-своему негодует, когда говорит Алеше, что Ивану удалось ввести в соблазн не только своего брата, но и вообще семейство Карамазовых: «Этот Иван прельстил вас всех, что вы все пред ним благоговеете?» (14, 75).
На первый взгляд может показаться, что Ракитин преувеличивает степень всеобщего благоговения перед Иваном Карамазовым, однако текст романа подтверждает слова «семинариста»: темная, сокрытая от всех сторона личности Ивана заинтриговывает самых разных героев романа, вызывает у них тревожный, неодолимый интерес и безусловное почтение к его загадочной персоне. Появление Ивана в Скотопригоньевске — это не очередной, обыденный приезд, но именно «роковой приезд», который вызывает недоумение и беспокойство.
Безусловно, Иван, которого Дмитрий справедливо называет «сфинксом» и «могилой», умел скрывать свои тайные мечты и планы. Еще в бытность свою студентом университета он начал уже расчетливо строить свою судьбу: бесспорное «умственное превосходство» дает ему возможность наладить прочные связи с редакциями, способствует публикации «весьма талантливых разборов книг на разные темы» (14, 15), делает известным его имя в литературных кружках. По окончании университета он совершает еще один, притом для него принципиально новый шаг навстречу взлелеянному в мечтах, вожделенному великому будущему своему: он печатает в большой, авторитетной газете «странную статью», которая вызывает обостренный всеобщий интерес. Иван не обучался богословию, но решительно обратился к предмету для него почти незнакомому и написал о церковном суде — на тему, которая в то время была исключительно актуальна в обществе и повсеместно обсуждалась. Нам кажется, что и в этом случае можно подозревать, что он увлекся «чужой» для него темой вполне прагматически — с рассчитанным намерением и в этом направлении расширить сферу своей популярности и влияния. И расчетливый автор статьи не ошибся: им заинтересовались, о нем заговорили и «атеисты», и «церковники». Последние, безусловно, приковали к себе особое внимание Ивана. Тут, однако, дело было не только в том, что статья его «проникла» в монастырь, а в том, что она «произвела совершенное недоумение» (14, 16), в котором Ивану очень важно разобраться, дабы еще основательнее утвердиться в своих взглядах.
Мы представили реально зафиксированные в романе подробности вполне прагматического хода вещей в судьбе Ивана Карамазова. Но такова именно «повадка» Достоевского — моделировать художественную реальность не в обход эмпирики, а в процессе обстоятельного разгляда ее прозревать в ней отнюдь не обыденную, а принципиально метафизическую природу жизненных процессов.
В этой связи есть смысл вновь напомнить, что двойственная природа повествования как в содержательном, так и в формальном плане может быть освоена более менее адекватно лишь при последовательном внимании к фронтальной сопряженности текста «Братьев Карамазовых» с библейским интертекстом.
Самое главное тут состоит для нас в том, чтобы, погружаясь в ощутимо-фактурную эмпирику итогового романа, не выпадать из «далекого контекста» (М. Бахтин) мира Библии. Следуя шаг за шагом за Иваном Карамазовым по земным его дорогам, мы не вправе терять из виду прототипическую аллюзийную соотнесенность текста Достоевского с архетипическим библейским сюжетом о Люцифере. Напомним в этой связи, что в рассказе пророка Иезекииля о царе-тиране промелькнуло важное, с нашей точки зрения, указание: «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил…» (Иез 28:16). Здесь следует подчеркнуть, что мотив «торговли» ни в коем случае нельзя мыслить и трактовать буквально. Современные библеисты, комментируя приведенный выше отрывок, отмечают, что в тексте ветхозаветных авторов говорится не только и не столько о торговле товарами, сколько о «торговле» идеями. Нет сомнений, Люцифер обольстил и увлек за собою «треть ангелов» внешне очень сильными, впечатляющими аргументами своей антитеодицеи.
Мысля, стало быть, под «торговлей» всякого рода практическую деятельность, каковой, безусловно, является распространение добра, можно считать, что вполне законное постепенное расширение сфер влияния («обширность», как сказано у Иезекииля), способно со временем породить у практика необоснованную уверенность в неограниченности его возможностей. В этом чувстве теряющий нечаянно трезвость «деятель» рано или поздно окажется перед пределом возможностей хорошо начинавшегося расширения сферы своего могущества, «внутреннее» его, говоря языком Иезекииля, «исполнится неправды», и он «согрешит». Речь, по сути, идет о таком моменте, когда привычных, традиционно легитимных, справедливых средств «завоевания» все новых пространств оказывается недостаточно. В безвыходной ситуации привыкший побеждать срывается в насилие, полагая, что его дело правое и оправдывает необходимую борьбу за торжество чаемого блага и справедливости любыми средствами (без моральных ограничений).
Нечто принципиально родственное обнаруживает себя и в Иване Карамазове, во всех его практических усилиях и интеллектуальных рефлексиях. Торговля идеями оказалась успешной; далеко идущие замыслы начинают осуществляться с завидной легкостью.
Заметим, однако, что игра Ивана-стратега только начинается, и случившемуся началу герой вовсе не придает значения окончательного итога. «Пикантная» статья о церковном суде, предмете отнюдь не уличном, при всем том, что она произвела значительный эффект, статья эта для Ивана все-таки только начало другой, гораздо более масштабной игры. Иван захвачен честолюбивыми планами отнюдь не литературного только свойства; им движет жажда обрести безусловный и безграничный интеллектуальный авторитет, власть над умами людей, притом людей церковных. Все именно так и получается в романе: уже на раннем, начальном этапе своей деятельности он добивается ощутимого успеха как раз не узко профессионального: «Многие из церковников сочли автора за своего» (14, 16). Этим, собственно, и объясняется прежде всего и главным образом его неожиданный приезд в Скотопригоньевск.
Далее в работе дается подробный анализ ключевых эпизодов «Братьев Карамазовых», в которых обнаруживается воистину люциферическая одержимость Ивана, его неодолимое стремление вводить в соблазн самых разных людей. Свою «работу» прельщения он начинает сразу с самого трудного, с «Града Божьего», то есть с монастыря, а затем продолжает ее в отчем доме. Этому плану существования героя посвящен раздел «3.3. Идейное столкновение Ивана Карамазова с отчим домом: прельщение “царства Карамазовых”».
В «Беседе за коньячком» нам открылся совсем другой Иван. Как ни парадоксально, но эта встреча в доме отца подтверждает догадку Ракитина об Иване-обольстителе. Не только в этом, но и в других эпизодах романа мы убедились, что, по слову Вяч. Иванова, «княжит в нем и через него Люцифер»[18]. Конечно, «Ракитка», бывший семинарист, упрощает ситуацию, однозначно характеризуя статью Ивана Карамазова о церковном суде как «дерзкий фарс и насмешку». Однако нельзя не отдать ему должное: уже в этой статье Ракитин, пожалуй, верно уловил капитальные мотивы той деструктивной теории, которая обнаружит себя вполне в поэме о Великом инквизиторе; уловил он и очевидный расчет богословской статьи. Скомпрометированному в келье старца Ивану теперь нечего бояться; для него возможны уже любые рискованные шаги. И вот он хладнокровно признается в безбожии, подтверждая тем самым справедливость подозрений и догадок иных участников монастырской «сходки».
Категорическое утверждение: нет Бога, как нет и бессмертия — характеризует страшную цельность и трагическую «агрессивность» миросозерцания несчастного атеиста. Зловещий характер этого упорства, повторимся, ближайшим образом обнаруживает себя, когда Иван возвращается из кельи в дом своего родителя. Здесь «сфинкс» Иван решительно меняет тактику ведения искусительной духовной брани. Теперь он еще ближе к «методике» и «технологиям» прародителя Люцифера, который заботился о расширении своих «владений». Оружием его, как выяснилось, является витиеватое, схоластическое слово, а не острый меч. Напомним, «бунт» Люцифера против Бога нашел свое выражение не в физических столкновениях и войне, а в идейном конфликте с Всевышним и небесными существами.
Евангелист Иоанн в своем лапидарном описании возникшей вселенской драмы использует греческое слово po,lemoj, которое переведено на русский язык словом «война», но это только одно из его значений[19]. «И произошла на небе война, — читаем мы в Синодальном переводе, — Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них» (Откр 12:7). Речь конечно же не просто о войне. Новозаветный автор, понимая этот конфликт прежде всего как метафизическую проблему, сознательно избегает «описания поля боя, самого хода сражения»[20], наконец, оружия, с которым противники воюют друг против друга. Он понимал, что антропоморфизмы только снизят, упростят градус и масштаб вселенской трагедии. Это Мильтон не побоялся (рискнул) прибегнуть к «изображению ратей неба»; соответственно, английский поэт был вынужден придумать, «создать своеобразную эклектическую военную терминологию»[21], которая не только поэтизирует, на наш взгляд, но и мифологизирует подлинную библейскую реальность. Не говоря уже о том, что «сами фигуры ангелов с доспехами и оружием, — как подчеркивает Е. В. Кобылина, — имеют нулевую степень интертекстуальности»[22].
Нечто подобное произошло и в Скотопригоньевске. Иван-идеолог, Иван-полемист теперь смело вступает уже в карамазовское пространство. Начав свою разрушительную «работу» с монастыря, он постепенно порабощается прямо-таки глобальным замыслом и принимает решение открыто идти к самой большой своей и конечной цели — к духовному княжению над всем миром и всякой в нем личностью. В итоге люциферическое самоопределение его оборачивается тем, что в соблазн впадает не «треть» даже, если воспользоваться библейской формулой, а уже все царство Карамазовых: и сам Федор Павлович, и Смердяков, и Дмитрий, и Алеша. Семена неверия, нравственного релятивизма, открытого богоборчества непременно прорастают в душах героев. Люциферическая сила его столь значительна, что нередко ему хватает взгляда, слова, эффектного аргумента, чтобы ввести в соблазн очередную жертву. Но торжество Ивана не безоговорочно. Строго говоря, Иван нигде, ни в одном из трех упомянутых эпизодов (какой бы «обширной» ни была его торговля-прельщение, — келья, отчий дом, трактир), не достиг результата необратимого. Герой дошел до всех мыслимых пределов люциферизации себя, но, и как сам Люцифер, не одолел Бога, не упразднил бесповоротно сотворенного Создателем. Этому вопросу посвящен раздел «3.4. Трагическая тяжба “светоносного” Ивана-Люцифера с Богом».
Суть бунта героя, его тяжба с Творцом в общем-то проста: движимый оскорбленным чувством справедливости, Иван Карамазов не может простить Богу в созданном Им мире зла и дерзает мечтать о разных вариантах спасения человечества без помощи Бога, на Которого никакой надежды нет. Вот об этом обо всем, об этом «своем» и задумался Иван задолго еще до наезда в Скотопригоньевск. Тогда-то и родилась у него та «поэмка», история Великого инквизитора, которую он в свой срок прочтет Алеше.
Иван по-своему мужественный и бескорыстный человек: не одним собой и даже, может быть, не столько собой занят. Пусть и эгоцентрически неловко, однако силится он решать не свои только проблемы, а и общечеловеческие. И вот в этой-то логике он помнит не о своих только обидах, но собирает целую коллекцию «фактиков», удостоверяющих, что во всем мире с невыносимой жестокостью извечно торжествует тотальное вселенское зло. Даже более стойкому христианину Алеше невмоготу слушать все это: «анекдотики» Ивана рвут на части его душу, которую окончательно сокрушает рассказ о несчастном ребенке, затравленном собаками сумасбродного генерала, рассказ, вынуждающий Алешу сорваться в жуткое: «Расстрелять!»
Вечный вопрос и мука Ивана Карамазова — слезинка ребенка. В нем, как, впрочем, и в Алеше, живом человеке и христианине, неистребима мука реального человеческого существа, мука в высшей степени этического сознания (не морализирующего односторонне и плоско). Вместе с тем герой Достоевского не придает значения тому факту, что он имеет дело с чрезвычайно сложными, по сути, неразрешимыми проблемами, ввиду того, что человек оказывается в позиции, где он в свободном развитии порождает ситуации, с которыми справиться не может. Более того, Бог не волен вмешаться. И отнюдь не потому, что Создатель равнодушен и беспечен к происходящему на земле. Его высочайшее достоинство как Бога безусловной любви состоит в том, чтобы обречь Себя на абсолютную справедливость, безоценочную, в том смысле, чтобы не спасать одного «ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь» (14, 224), за счет случайной жертвы другого. (Здесь мы сталкиваемся с классической антиномией.)
В азарте богоненавистничества Иван видит виновным главным образом Бога. Однако если бы он мог оглянуться на самого себя, сумел бы обязать, настроить свой ум и сердце выстоять в беде, а не жаждать возмездия, как того он неистово требует, не искать виноватого («Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю, — мне надо возмездие… здесь, на земле, и чтоб я его сам увидел» — 14, 222), бесконечная цепочка греха, вины, причастности к мировому злу могла бы быть прервана и непременно в логике непротивления этому злу. Но, как ни парадоксально, при всей своей горячей любви к человечеству, Иван не замечает оборотную сторону этого надрывного, декларируемого филантропизма — невольный, неосознанный эгоцентризм. Он не может забыть не только о «слезках» детей, но и о себе в этой неубывающей цепи людских страданий. Его эмоциональная речь пестрит личными местоимениями, за которыми читается уязвленное самолюбие, эгоцентризм, гордыня: «я ничего не понимаю», «я и не хочу теперь понимать», «я давно решил», «я знаю», «я не могу», «мне надо» (14, 214—221).
В итоге билет Богу возвращен, от царства «вечной гармонии» герой решительно отказался. Молодой человек смело встал на свой собственный путь: в разговоре с Алешей Иван пытается не только поставить брата на свою «точку», но и представить ему в виде поэмы о Великом инквизиторе дерзновенный проект избавления человечества от господствующего в мире зла — проект, который он долго вынашивал, все более расходясь с традиционным христианством.
Расхождение это, расставание с Богом состоялось, однако только в душе Ивана. Никаких сокрушительных последствий в метафизическом мире оно не породило. Скотопригоньевский Люцифер не стал равным Всевышнему. Да, он «возвеличился духом Божеской, титанической гордости», но главным образом в своем сознании, а «в целом мире» ему так и не удалось стать «человеко-богом» (14, 83). Между тем, не ограничившись восстанием против Бога Отца, Иван решил посягнуть и на самого Христа. Подобно Люциферу, «позавидовавшему Его (Христа — В.Л.) преимуществам»[23], Иван возмечтал разрушить представления о Нем как о Спасителе мира. Иначе говоря, он захотел не одну только общую идею Бога опрокинуть, но подорвать самые основы, убить живое сердце вполне определенной веры — христианской. Этому мы посвятили завершающий раздел исследования «3.5. Тяжба Ивана Карамазова со Христом».
Очевидно, что Иван, который до последнего держит в своем гордом «эвклидовом уме» некую сумму слагаемых «плана спасения» мира, так-таки и не понимает замысла Творца. Да, ему известно, что для многих людей Христос является разрешением вселенской драмы. Он помнит, что по учению Церкви Сын Божий стал жертвой, через которую, как писал Ириней Лионский, Создатель выкупил «нас у отступника Люцифера, то есть дьявола»[24]. Однако же для Ивана безответными остались вопросы: умерила ли эта жертва, утишила ли она гнев Вседержителя? Воистину ли спасается грешник «кровью Его (Христа — В. Л.)»? Однако Иван примирение Христово не приемлет, не может и не хочет принять. Его смущает кроме того и Божественный статус Христа, Он завидует Его положению в Троице, как в свое время завидовал статусу сына Божия Денница[25], ведь «окончательный, дерзкий план Люцифера состоял в том, чтобы узурпировать власть, которую Христос имел над всеми другими сотворенными престолами»[26]. Поэтому на каждое «Я есмь» Спасителя: «Я есмь хлеб жизни…» (Ин 6: 35), «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6), «Я свет миру» (Ин 8:12), «Я есмь истинная виноградная лоза» (Ин 15:1) — потомок Люцифера, богоборец из Скотопригоньевска произносит свое «Я есмь»: «я знаю», «я решил», «я спешу взять свои меры».
Когда-то, за полтора года до приезда в Скотопригоньевск, Иван Карамазов уже провозгласил в припадке гордыни слова, напоминающие слова Люцифера. Более того, в максиме, которую он провозглашает, встречается вербальная аллюзия, отсылающая к библейскому прототипу и его речам: «Где станет Бог — там уже место Божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место (мое, нового Бога место — В. Л.)…» (15, 84). Заметим, что это не мы оборвали цитату. Не договаривает здесь Иван. За многоточием тут его умолчание. О чем же? О том, что первое место тогда уже будет его, то есть и всякого, разумеется, безбожника, которому в отсутствие Бога «все дозволено» (15, 84).
Грандиозные планы по перестройке мира «по новому штату», вне всякого сомнения, ослепили молодого историософа. С ним случилось то же, что и с блистающим в славе своей Люцифером, о котором Всевышний через ветхозаветного автора предрек: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; зато повергну тебя на землю... отдам тебя на позор» (Иез 28:17). На пути гордеца из Скотопригоньевска встал невидимый Бог и сама жизнь, которая столкнулась с ним на скользкой стезе преступления. Достоевский-визионер знал и предвидел (как и провозвестил о судьбе Люцифера библейский пророк Иезекииль), что гордыня приведет Ивана Карамазова к падению. Более того, подобно Учителю и пророку из Назарета, «увидевшему сатану, спадшего с неба, как молния» (Лк 10:18), русский художник и пророк не только узрел, но и явил средствами своего фантастического реализма метафизику падения нового Люцифера, торжествующего поначалу всего лишь в небольшом «царстве Карамазовых», но болезненно возмечтавшего и задумавшего план торжества над всем миром.
В последних главах итогового романа описана не просто «внезапная катастрофа», но именно via dolorosa[27] Ивана Карамазова. Достоевский, безусловно, пошел на риск, когда «поверг... на землю» и «отдал... на позор» (Иез 28: 17) российского Люцифера. При этом, однако, он не лишил его шанса на спасение.
В заключении диссертации подводятся итоги исследования и намечаются возможные перспективные направления.
Основные положения исследования отражены в следующих публикациях:
1. Сомнения Федора Достоевского — трагедия веры или религиозно-философское кредо писателя-христианина? // Смысл человеческой жизни. Диалог мировоззрений: Материалы симпозиума: Н. Новгород, 1992. С. 117–120 (0,3 п.л.).
2. Dostoyevsky: A Writer Struggles With Faith // Dialogue № 5: 2.1993. (U.S.A). p. 12–15 (0,1 п.л.).
3. О влиянии поэтики Библии на поэтику Ф. М. Достоевского // Вопросы литературы. Июль—август 1998. C. 129–143 (0,7 п.л.).
4. «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского: поэтика библейской аллюзии // Богословский вестник. № 5 / ноябрь. 2002. С. 205–249 (1,3 п.л.).
5. А стоит ли слезинка ребенка вселенской гармонии? (Об одном софизме Ивана Карамазова) // Три века русской литературы. Актуальные аспекты изучения: Межвуз. сб. научных трудов. Вып. 5. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. пед. ун-та, 2004. С. 165–174 (0,3 п.л.).
6. Христологические измерения образа Алеши Карамазова: функция евангельских аллюзий. Богословский вестник, № 7/ ноябрь 2004. С. 233–241 (0,5 п. л.).
7. «Братья Карамазовы» и прецедентный текст Библии: Дмитрий Карамазов как аллюзия на Самсона // Юбилейные Достоевские чтения: Сб. докл. / Сост.: Г. А. Агасарян и др. Ош, 2006. С. 54–62 (0,4 п.л.).
8. «Книга Иова» как прецедентный текст «Братьев Карамазовых» (из наблюдений над поэтикой диалогического слова) // «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения: Сб. трудов. М.: «Наука», 2007. С. 379–395 (1,2 п.л.).
[1] Впечатляющим свидетельством «роста акций» итогового романа писателя у достоеведов является недавно изданный сборник трудов ученых самых разных стран: Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: соврем. состояние изучения / под ред. Т. А. Касаткиной; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. М.: Наука, 2007.
[2] Янси Ф. Нагорная проповедь: проповедь-укор. М.: Триада, 1999. С. 30.
[3] Ковач А. Иван Карамазов: Фауст или Мефистофель? // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1997. Т. 14. С. 163.
[4] Булгаков С.Н. Иван Карамазов в романе Достоевского «Братья Карамазовы» как философский тип // О великом Инквизиторе. Достоевский и последующие. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 212.
[5] Ефимова Н. Мотив библейского Иова в «Братьях Карамазовых» // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1994. Т. 14. С. 122–132.
[6] Пономарева Г.Б. Бунт Ивана Карамазова: Источники и параллели // О великом Инквизиторе. Достоевский и последующие. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 252.
[7] Набоков В.В. Достоевский // Лекции по русской литературе. М.: Изд-во «Независимая Газета», 1999. С. 182.
[8] Здесь и далее все цитаты из произведений Ф.М. Достоевского приведены по 30-томному академическому Полному собранию сочинений (Л.: Наука, 1972-1990), с указанием в скобках арабскими цифрами тома (а также, через косую черту, соответствующего полутома) и, через запятую, страницы. Заглавные буквы в написании имен Бога, Богородицы и др. святых имен и богословских понятий, пониженные в атеистическую эпоху по требованиям цензуры в ПСС, восстанавливаются.
[9] В «Кратком словаре литературоведческих терминов» находим следующее определение: «Аллюзия — одна из форм иносказания, употребление какого-либо слова, фразы, цитаты в качестве намека на общеизвестный факт — литературный, бытовой или общественно-политический...» (Литература: Справочные материалы / Под общ. ред. С.В. Тураева. М.: Просвещение, 1989. С. 12). Автор законно не свел иносказание к аллюзии, которая для него только «одна из форм иносказания». Но он пожертвовал при этом широтой понятия «аллюзия», которое оказалось у него только «одной из форм иносказания», иносказания намекающего, но намекающего лишь в своей собственной форме, в форме именно иносказания. Иначе говоря, аллюзия для автора — иносказание и ничего более. Последнее мы и считаем упрощением понятия, сужением его. Имплицитное существо аллюзии конечно же эксплицирует себя более разнообразно и в этом смысле аллюзия не тождественна иносказанию, хотя у нее и есть, конечно, ряд определенных сходств с последним.
[10] Волгин И. Последний год Достоевского: Исторические записки. М.: Советский писатель, 1991. С. 248, 249.
[11] В разных книгах Библии гордость осуждается безоговорочно. См. об этом: Притч 16:18; Иер 50:31; Притч 8:13; Притч 11:2; Притч 29:23; Ис 14:11; Ис 25:11; Иер 50:32; Пс 118:21; Ис 13:11.
[12] Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // А. Камю. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / Пер. с фр. М.: Политиздат, 1990. С. 84
[13] Волынский А.Л. Царство Карамазовых. СПб., 1901. С. 97.
[14] Ветловская В., Дунаев М., Томпсон Д. и др. Профессор М. Дунаев, например, опираясь на принцип компрометации героя, предложенный В. Ветловской, абсолютизировал его до такой степени, что в Иване Карамазове нет уже ничего доброго и положительного: «Подобно своему соблазнителю, Иван лжец и предатель. Он предстает также как человеконенавистник. Как вдохновитель убийства собственного отца. Как идеолог безбожного аморализма. Как человек, погрязший в гордыне. Как иезуитски изощренный казуист. Как празднослов, запутавшийся в собственных противоречиях. Как прямой, вместе со своим Инквизитором, противник Христа» (Дунаев М.М. Ф.М. Достоевский // Православие и русская литература: В 5 ч. Ч. III. М.: Христианская литература, 1997. С. 486).
[15] Булгаков С.Н. Указ. соч. С. 198.
[16] Ветловская В.Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л.: Наука, 1977. С. 100.
[17] Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета / Сост. О.Н. Штейнберг. Вильна, 1878. С. 463.
[18] Иванов Вяч. Достоевский: Трагедия. Миф. Мистика. Брюссель, 1985. С. 86.
[19] The Greek New Testament. Stuttgart: United Bible Societies, 1983. p. 864. Ср. po,lemoj war, battle; strife, conflict (Newman Barclay M. A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament. Stuttgart: United Bible Societies, 1971. p. 146).
[20] Кобылина Е.В. Интертекст и гипертекст в произведении Дж. Мильтона «Потерянный Рай» // http://www.frgf.utmn.ru/No20/text12.htm
[21] Толочин И.В. Метафора и интертекст в англоязычной поэзии: Лингвистический аспект: СПб.: Изд. Санкт-Петербургского ун-та, 1996. С. 96.
[22] Кобылина Е.В. Указ соч. С. 5.
[23] Макарий. Православно-догматическое богословие: В 2 т. Репр. воспр. изд. 1868 г. М.: Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1993. Т. 1. С. 408. Об этом же писал и Мильтон: «Он (Люцифер — В.Л.) завистью внезапной воспылал, / Затем, что Сына Бог-Отец почтил, / Столь возвеличив, и Царем нарек, / Помазанным Мессией…» (Мильтон Джон. Потерянный Рай. Стихотворения. Самсон-борец. М., 1976. С. 160.).
[24] Цит. по: Вестель Ю.А. Катехизис в виде философской апологии // Свт. Григорий Нисский. Большое огласительное слово / Редакция перевода, план-конспект, примечания и послесловие Ю.А. Вестеля. Киев: Пролог, 2003. С. 349.
[25] Раннехристианский апологет Лактанций писал об этом: «Падший Люцифер не пожелал поклониться Сыну Божию, позавидовав его преимуществам» (Lactantius. The Divine Institutes // The Ante-Nicene Fathers: In 10 vol. Grand Rapids: W.B. Eerdmans publishing Company, 1956. Vol. 7. p. 51.) См. об этом также: Вондел Йост ван ден. Трагедии. М.: Наука, 1988. С. 19.
[26] Fowler John M. The Cosmic Conflict Between Christ And Satan. Silver Spring: pacific press, 2002. p. 89.
[27] «Путь страданий», крестный путь (Словарь латинских крылатых слов. М.: Русский язык, 1982. С. 849.)