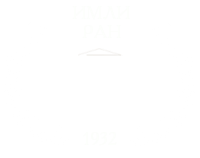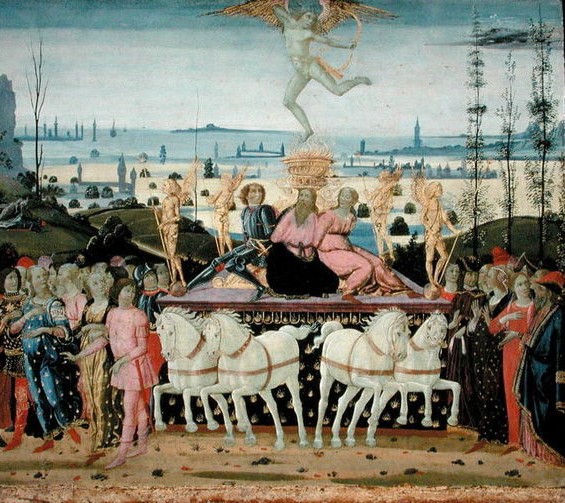
Беседа с зав.отделом теории литературы ИМЛИ РАН
«Не говори об этом часто – скажи раз и навсегда», — говорил о любви мудрый польский поэт Ян Твардовский. Действительно, пожалуй, нет на земле более «затёртых» и осквернённых, искажённых нашими ложными представлениями слов, чем Бог и любовь. Как же быть: вообще табуировать всякую речь о любви? Как отличить разговор любящего и разговор влюблённого? Почему поэзия кажется более органичной в разговоре о любви, нежели проза? Как изменилось современное представление любви? На эти и другие вопросы отвечает филолог, культуролог, философ, религиовед, писатель прекрасная Татьяна Александровна Касаткина.
– Каждая эпоха создаёт свой идеализированный образ любви. А каков современный миф любви, на ваш взгляд?
– Эпоха постмодерна характеризовалась, собственно, тем, что у нее не было характеризующих ее мифов. Она открыла пространство для одновременного присутствия всех мифов, которые пытались нечто объяснить человечеству на протяжении многих и разных веков и в границах многих и разных культур. В принципе, и сейчас каждый может выбрать что-то, наиболее ему подходящее из накопленного. Но некоторые процессы формирования общего, объединяющего сознания современников уже пошли.
Надо, однако, определиться с тем, что мы имеем в виду, когда говорим о мифе. Потому что определений множество, и произнося одно и то же слово, люди умудряются говорить о вообще никак не соотносящихся между собой вещах. Так вот, в пределах нашей беседы мы будем говорить о мифе как о посреднике между тем, что человеку более-менее постоянно доступно в ощущениях и относительно чего у него сформировался язык – и тем, что ему доступно окказионально и для чего языка у него нет. Миф – это один из наиболее распространенных способов говорить о том, о чем нельзя говорить. Следовательно, миф – это не формула, а образ, история, которая рассказывает о том, что происходит в том мире, для описания которого у нас есть язык, а говорит при этом о том, что происходит в том мире, для которого у нас языка нет.
И вот если мы посмотрим на картинку, которую нам предлагают лучшие / культовые / улавливающие или определяющие развитие современного сознания фильмы современности, то мы увидим (даже если, говоря о любви, мы будем иметь в виду исключительно любовь страстную), что речь все больше идет о партнерской любви – о любви двух развитых и самодостаточных, ответственных личностей. Любимый сейчас – это еще и друг, и соработник, и вдохновитель. Любимая женщина – не та, которую защищают, не та, которая ждет спасителя, а та, которая бьется рядом, плечом к плечу и сама может, если ситуация так сложится, выступить в роли спасителя.
Что эта картинка нового мифа о страстной любви говорит нам о новых отношениях человека и Бога (а мифы о страстной любви – они всегда говорили именно об этом отношении, рассматривая человека и человечество как невесту Бога)? Она говорит о том, что все более становится важным вопрос: «Господи, чем я могу помочь Тебе?» Она напоминает о том, что Господь, пришедши на землю, искал не подчиненных – а сотрудников и соратников, и ищет их до сих пор.
А если мы посмотрим на те образы, которые транслирует в общественное сознание психология в самых разных своих вариантах, то мы увидим, что главным будет образ любви-приятия, любви безусловной. И это тоже свидетельствует о том, что человек разглядел иной образ Бога – не карающего за «отступление» и «грех», а, наоборот, пытающегося защитить «промахивающегося» (а «грех» значит «промах», «непопадание в цель») от естественных последствий его промаха – до тех пор, пока человек своими «промахами» не поставит себя вне зоны действия «принимающего» Бога.
– Витгенштейн говорил, что «о том, о чём невозможно сказать, лучше молчать». Современный прекрасный православный богослов о. Джон Пантелеимон Манусакис считает, что молчать не следует. Как быть с разговором о любви – стоит ли говорить, или мы уже настолько «затаскали» это слово, что своей болтовнёй, возможно, исказили его подлинное содержание?
– Ну, мы с вами уже выше сказали, что человечество все время (и возможно, это и есть конститутивный признак человечества) занималось тем, что создавало способы говорить о том, о чем невозможно говорить. Ребенок овладевает языком, пытаясь говорить о том, о чем он еще не может сказать. Если любой изучающий язык не пытается говорить о том, о чем еще не может сказать – он не освоит язык никогда. Если человечество перестанет говорить о том, о чем говорить невозможно, – оно перестанет расти. В тот момент, когда несказанное появляется в сознании посредством картинки-мифа, оно уже входит в область наличного. Когда мы начинаем о нем говорить – значит, мы его осваиваем, вводим в область нашей реальности, расширяем ее, захватываем новый ее уровень. Если мы что-то «затаскали» – это просто значит, что какие-то прежде насущные и действующие в нашей жизни смыслы приходят в негодность – и это значит, что прорастают новые смыслы. Слова «мой защитник» или «мой повелитель» звучат пошло именно потому, что сгнили и отсохли стоявшие за этими словами частные истины нашей жизни. Мы приучаемся смотреть как на равного – на возлюбленную / возлюбленного, на ребенка, на слабого, на инвалида. Мы приучаемся не опекать их, а сотрудничать с ними, понимая все больше, что не бывает отдачи в одну сторону, и что, соответственно, ложны все идеи иерархий – потому что иерархия (как миф) была оправдана только тем, что облегчала течение силы, благодати, знания с высот в низины.
Я думаю, пошлость, ощущение пошлости – это ощущение выхолощенности, утраты смысла. Это ощущение вымывает слова из нашей речи – и смыслы из нашего сознания, и на смену приходит иное. И об этом ином непременно нужно пытаться говорить.
– Каков должен быть разговор о любви – каких типичных ошибок следует избегать, или к любви вообще слово «типичные» не применимо?
– Мне кажется, разговор о любви, прежде всего, должен быть искренним. Как ошибку в таком разговоре я бы рассматривала попытку следовать штампам сознания, выбитым в нашем сознании культурным колеям, от которых «стыдно» отходить. Слово «стыдно», возможно, ключевое в разговоре о любви – этот стыд возникает всегда именно потому, что о любви наименее возможно говорить внеличностно и «как положено». Поэтому, думаю, разговор о любви – это именно то, что движет язык человечества в его развитии, в его захватывании новых уровней смысла.
– Были ли какие-то литературные истории любви, которые вас когда-то по-настоящему потрясли и почему?
– Их много – начиная с «Финиста – ясна сокола» совсем в детстве. Если коротко – то все те истории любви, которые обладают качествами непоправимости и неосуществимости в видимой нам реальности. Символ такой любви для меня – кусты, сросшиеся в один, выросшие из могил Тристана и Изольды. Момент осуществления их любви. Это, конечно, если переговорить их историю в евангельском дискурсе, – о моменте соединения человека и Бога в единое привитием земной ветви к небесной Маслине – моменте, в полноте не достижимом, пока мы радикально не выйдем за пределы всего доступного нам в нашей, скажем, социализированной ограниченности.
Помните – Финист прилетает к младшей сестре до тех пор, пока старшие сестры не утыкают раму окна ножами. Вот эти ножи в открытом изначально окне – и есть то, что делает с человеком «социализация». А потом уже нужно железные посохи и сапоги стачивать и железные хлебы глодать, чтобы вернуть Возлюбленного…
– Бытует мнение, что для влюблённого органичнее поэтическая речь, нежели прозаическая? Почему, как вы думаете?
– Мы отчасти уже поговорили об этом. Именно потому, что речь влюбленного – это каждый раз попытка говорить о несказанном, попытка пройти, превзойти «потолок» наличной реальности. Это задача поэзии (буквально – языка творца; стихи по-латыни versus, обозначают возвратное, вихревое движение, движение сверла, пробивающего потолок); проза («прямое движение») – это пространство освоения того, что добыто поэзией. Влюбленный – первопроходец в том смысле, что он выходит за границы прежде доступного и освоенного. Всегда.
– Для речи влюблённого нередко характерна превосходная степень. Часто это воспринимают как проявление уязвимости любящего (его неспособности критически воспринимать действительность и пр.) Но ведь на это можно попытаться посмотреть и с другой стороны. Например, провести параллели между речью влюблённого и богословием хвалы и т.д. А что для вас эта хвалебная интонация влюблённого?
– Ну, об этом кто только уже ни сказал. Любовь – это способность видеть сущность человека как бы уже осуществленной. «Видеть человека, как его задумал Бог». А Бог его задумал как свой образ и подобие, вообще-то. То есть – любовь видит человека – хотя бы в момент своего возникновения – в уже обоженом состоянии. И дальше – если она – Любовь – она помогает развернуться всему тому, что скомкано и испуганно, как листочки в набухшем семени, лежит внутри увиденного Ею человека. Но если она – любовь – она часто застывает с головой, поднятой в восхищении вверх, на недостижимого Любимого. Иногда это срабатывает, восхищение заставляет человека выйти за собственные пределы. Но, как правило, такой результат непрочен – и любовь превращается в разочарование и ненависть, вызванную ощущением того, что нас обманули.
Именно поэтому наш Бог пришел не как шлемоблещущий герой, но как младенец. Человека нельзя назначить Богом, Бога из него можно только вырастить (имеется в виду учение об обожении – А.Г.), нежно защищая эту новую природу. Но, знаете, мне, например, очень нравится, когда итальянцы часто, там, где мы эмоционально сказали бы «мой маленький», говорят – очень эмоционально – «grande» – «великий». Они как бы обозначают для младенца пространство роста – а мы обозначаем его наличное состояние. Для них как бы каждый маленький шажок – это шаг в перспективе будущего величия. Вот, наверное, настоящая Любовь видит и опекает наличное состояние, но ни на миг не выпускает из виду скрытое в беспомощном часто наличном – величие – и радуется ему, как уже присутствующему.
– Когда говорят о любви, часто отмечают уязвимость, «бескожесть» влюблённого. У украинского философа-диалогиста В.А. Малахова даже есть книга «Уязвимости любви». В чём, на ваш взгляд, заключается уязвимость любви?
– Я бы не говорила об уязвимости любви. Любовь – неуязвима. А вот любящий принципиально уязвим – и эта уязвимость есть его способность открывать собственные границы, предоставляя любимому пространство для роста. Для роста внутри любящего. И это уже больно, внутри растут, разрывая и сминая устоявшееся… А потом еще нужно разомкнуть объятия – и выпустить выросшего в мир – и тогда начинают рваться корни-связи, которые прежде пили живую воду из утробы любимого, а сейчас уже не годятся. Им нужно укореняться в другом месте. С этой точки зрения – любовь – это непрерывная боль. Но ведь для пашни, растящей семя, которое она сначала баюкает, и которое потом рвет ее корнями, разбивает в пыль, высасывая воду, и т.д. – это выросшее растение есть величайшее торжество осуществления за собственными пределами. И такое осуществление за собственными пределами дается только любящему.
– Все мы помним прекраснейшую работу Р.Барта «Фрагменты речи влюблённого». И тем не менее, на ваш взгляд, взгляд филолога и философа, чем принципиально отличается речь влюблённого от речи любящего?
– В русском языке это различение провести и описать легко. «Влюбленный» – в самой форме слова содержит смыслы вторжения, внедрения во что-то. Влюбленный требователен, влюбленный часто похож на младенца, требующего внимания, живущего вниманием любимого. Любящий – тот кто предоставляет пространство, не впивается – а раскрывается для создания защищенного места для роста любимого. Любящий – дарующий. Влюбленный – даже если дарит – ждет и требует (иногда молчаливо, но от этого не менее интенсивно) отдачи. Любящий думает о любимом и говорит для него (для, опять-таки, создания пространства и обеспечения роста). Влюбленный думает о себе («я не могу без него» — «я» тут на первом месте) и говорит о любимом, притягивая и привязывая, призывая его к себе словами.
Речь любящего – это одновременно магия защиты, надежности, тепла, – и дудочка, зовущая выглянуть, вытянуться за безопасные пределы, расти. Речь влюбленного – это плетение сети, паутины в стремлении удержать и «получить» другого. Удивительно ли, что любимого часто в конце концов выбрасывают из этой паутины – как паук выбрасывает высосанную муху.
– Вы очень красиво раскрываете проблему символа. Если бы вас попросили указать какой-то символ для обозначения любви, то что бы вы назвали и почему?
– Европейское средневековье активно использовало тот символ, который для меня есть символ любви. Это пеликан, кормящий своих птенцов кровью своего сердца. Нужно понимать, что это не символ самоопустошения, ведущего к «выгоранию». Символ пеликана, кормящего птенцов, – это символ, повернутый одновременно вовне и внутрь. Это полная самоотдача по отношению к «внешним» любимым, за счет которой странным образом внутри любящего взращивается то же самое, что он выращивает во внешнем пространстве – мир, довольство, полнота и любовь к себе. И здесь раскрывается еще одна грань смысла великой заповеди: Люби ближнего своего как самого себя…
Беседовала Анна Голубицкая