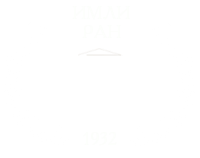Финансовая поддержка Российского научного фонда (проект № 18-18-00129)
18 октября 2019 г. в ИМЛИ РАН состоялось третье заседание продолжающегося научного семинара «Проблемы методологии и тезауруса “усадебных” исследований в российском и зарубежном литературоведении», посвященное обсуждению и дальнейшей разработке методологических подходов к изучению русской «усадебной культуры» и необходимого для этой цели терминологического аппарата.
Организаторами семинара выступили отделы русской литературы конца XIX — начала ХХ в., русской классической литературы, новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья, классических литератур Запада и сравнительного литературоведения и Совет молодых ученых ИМЛИ РАН. Всего было заслушано 6 докладов участников и гостей проекта, по поводу которых возникла оживленная дискуссия. На семинаре были предложены к рассмотрению в качестве методологической опоры «усадебных» исследований теории «культурного трансфера» и «нового историзма», обсуждалась новая терминология – «гетеротопия усадьбы» и «усадебный габитус», прослеживались связи между геопоэтикой и усадьбоведением, а также освещались детали корреляции между русским и англо-американским лексиконом, связанным с усадебной тематикой.
В докладе руководителя проекта д.ф.н. О.А. Богдановой (ИМЛИ РАН) «Понятия гетеротопии и габитуса в контексте “усадебных” исследований начала XXI в.» говорилось как о важнейшей задаче проекта не только о верификации уже существующей терминологии, связанной с исследованием усадьбы в литературе и культуре («усадебный топос», «усадебный локус», «усадебный хронотоп», «усадебный текст», «усадебная культура» и т.д.), но и о выдвижении новых категорий – инструментов литературоведческого анализа «усадебных» текстов, которые способны возникать на междисциплинарных стыках. Таковы выдвинутые докладчицей термины «гетеротопия усадьбы» и «усадебный габитус».
Впервые понятие гетеротопии сформулировал в 1967 г. французский философ М. Фуко, подразумевая под нею сопоставление в одном-единственном месте нескольких пространств, нескольких местоположений, которые сами по себе несовместимы. При этом он выделил разряд «компенсаторных» гетеротопий, которые создавали «другое реальное пространство, настолько совершенное, настолько тщательно и хорошо устроенное, насколько наше беспорядочно, плохо устроено и запутано». Последнее суждение прямо отсылает нас к русской помещичьей усадьбе. «Гетеротопия усадьбы» исследована на материале романа З.Н. Гиппиус «Роман-царевич».
Сформулированное в 1979 г. французским философом П. Бурдьё понятие габитуса включает в себя совокупность обладающих устойчивостью моделей восприятия и действия, которые индивид приобретает в процессе социализации, инкорпорируя способы мышления, чувств и действий. Допустимо говорить о габитусах социальных полей, к которым вполне может быть причислена помещичья усадьба. Носителем «усадебного габитуса» сформированный «усадебным топосом» человек оказывается и в ситуации других топосов, вступая в неизбежный конфликт с присущими им габитусами или, напротив, теряя черты, характерные для габитуса усадебного. «Усадебный габитус» исследован в докладе на материале ряда рассказов из цикла И.А. Бунина «Темные аллеи».
В докладе основного исполнителя проекта д.ф.н. Е.Е. Дмитриевой «Культурный трансфер как методология исследования “усадебного текста” русской литературы» подробно рассматривалась теория культурного трансфера, зародившаяся в середине 1980-х гг. в среде французских филологов-германистов, работавших над изданием хранящихся во Франции рукописей Генриха Гейне. Эта теория определяла себя в имплицитной и эксплицитной полемике с компаративным методом. Компаративизму в гуманитарных науках, исходящему из идеи «особости» каждой культуры, даже когда речь идет о влиянии одной культуры на другую, теория культурного трансфера противопоставляет не просто изучение одновременно нескольких культурных и национальных пространств, но также и изучение имбрикаций, вкраплений, трансформаций, которые при всяком соприкосновении культур проявляются равно в воздействующей и в принимающей культурах. Тем самым в расчет уже берется не бинарная оппозиция – две культуры, одна из которых обязательно осмысляется как культура-реципиент, т. е. культура принимающая, – но гораздо более сложная конструкция. Так, открытие А. Бергсона в России оказывается неожиданным образом подготовленным (и скорректированным) предшествующим увлечением Ф. Ницше, казалось бы ничего общего с Бергсоном не имеющим. В свою очередь Ницше, будучи большим поклонником Ф.М. Достоевского, поначалу был прочитан в России сквозь призму Достоевского. А характер воздействия на европейское гуманитарное знание XX в. русской формальной школы (Ю. Тынянов, Б. Шкловский, Б. Эйхенбаум, О. Брик, В. Жирмунский и др.), воспринятой как сугубо русское явление, вряд ли может быть в полную меру понят без учета того импульса, который формалисты в свое время получили от западной гуманитарной науки: психологической школы К. Штейнталя, эстетики Гербарта, искусствознания Г. Вельфлина.Другой «новый момент» в теории культурного трансфера заключается в том, что изучение периферии культурного пространства, т. е. тех связей, которые каждая культура по необходимости поддерживает с чужим культурным пространством, она перемещает в самый центр. И тем самым демонстрируется, насколько любое, даже самое национальное явление (или, во всяком случае, почитающееся таковым) на самом деле является сложнейшим сплавом разных культур и взаимовлияний.В последнее время теория и методика культурного трансфера оказывается весьма плодотворной, особенно в области истории искусства, а также в сфере исследования проблем современной урбанистики и садового искусства. Одним из наиболее ярких примеров использования данной методики в изучении садового и усадебного текста стала книга русско-немецкой исследовательницы Анны Ананьевой «Russisch Grün. Eine Kulturpoetik des Gartens im Russland des langen 18. Jahrhunderts» (Русский вертоград. Культурная поэтика русских садов долгого XVIII века (Bielefeld, 2010).Вопросы, который автор книги пытается решить, звучат следующим образом: как садовое искусство отвечало на потребность модернизации страны? как теория и практика садового искусства превращались и превратились в медиум, позволявший формулировать, обсуждать, осуществлять или, наоборот, отвергать социально-исторические, политические и эстетические изменения в государстве? какие области знания развивались и создавались с оглядкой на садовый и усадебный дискурс? Садовое искусство, как показано в монографии А. Ананьевой, на самом деле реализует себя не только в пространственной форме – дополнительно оно нуждается и в языковой медиации. По аналогии можно было бы сказать, что также и усадьба стала совершенно особым явлением в русской культуре именно благодаря слову, войдя в литературу и став объектом вербального осмысления.
В докладе гостя нашего семинара к.ф.н. Н.Н. Смирновой (ИМЛИ РАН) «От текста к историям. О методе “нового историзма”» речь шла о том, что исследование текста как замкнутой структуры в «новом историзме» замещается изучением многочисленных связей, которые образуются между реальностью эстетической и условно внеэстетической. Текст конституируют истории взаимодействия, обмена между этими реальностями, продуцирующими разные дискурсы.
Отсюда – идеи о взаимовлиянии между методом исследования и предметом, возникновение новых тем исследования (и ви́дения исторических событий), ранее считавшихся маргинальными. Уход от больших исторических повествований в сторону как будто бы маргинальных историй о событиях в их связи с вызываемой ими эмоцией, которые могут разниться в зависимости от субъективной точки зрения на них, возможен, поскольку предполагается, что:
каждый творческий акт уже встроен в многочисленные связи материальной культуры;
литературный и нелитературный тексты циркулируют неразрывно в историческом процессе;
никакой тип дискурса не позволяет достичь незыблемой истины;
каждое критическое прочтение использует механизмы и инструменты, которые оно разоблачает (и таким образом, критический взгляд обращается и на само это прочтение);
критический метод и язык, адекватный для описания культуры в том или ином экономическом устройстве общества, неизбежно участвуют в самих экономических процессах, которые они описывают (Подробнее см.: Veeser H. Aram. Introduction. In: The New Historicism. / Ed. By H. Aram Veeser. New York: Routledge, Chapman, and Hall. 1989. P. XI).
Один из важнейших принципов «нового историзма» – нахождение многочисленных связей между культурными кодами и дискурсами власти. Здесь сказывается изучение представителями этого направления идей М.М. Бахтина о связи официальной и народной смеховой культуры.
«Новый историзм» меняет взгляд на эстетическое, которое, по словам С. Гринблатта, есть не альтернативная сфера, но способ усиления единственной сферы реальности, в которой мы все пребываем (См.: Greenblatt S. Towards a Poetics of Culture. In: The New Historicism. / Ed. By H. Aram Veeser. New York: Routledge, Chapman, and Hall. 1989. Pp. 6-7). Идея ми́месиса замещается представлениями о рекурсивном характере взаимодействия общественной жизни и языка. С этим связана задача разработки терминологии для описания способов, которыми факты материальной культуры (официальные документы, частная переписка, вырезки из газет и т.д.) пересекают границы дискурсов и приобретают эстетические свойства (Ibid., p. 11).
Все это предполагает стирание границ между историей и литературоведением, поскольку такая диспозиция исследуемых реальностей образует подвижную структуру, в которой реальность общественных отношений постоянно формируется и переформируется текстами, что она же производит. Способы воздействия эстетической реальности на реальность общественных отношений приводят к размышлениям о каком-то ином, до сих пор не понятом механизме их взаимоотношения, чем и занимается «новый историзм».
Основной исполнитель проекта к.ф.н. М.В. Скороходов в докладе «Культурный ландшафт и геопоэтика: к вопросу о различиях в терминологии» отметил, что в филологические науки все более активно проникают термины, применяемые в смежных дисциплинах, в том числе в гуманитарной географии. В числе предметов изучения гуманитарной географии – произведения словесности, нередко они становятся источниками сведений о природных и культурных ландшафтах. Основы гуманитарной географии заложил В.П. Семенов-Тян-Шанский, отметивший в книге «Район и страна» (1928) тесное взаимодействие науки и литературного творчества (глава «География и искусство»). Литературный ландшафт, одна из разновидностей культурного ландшафта, – «сложный природно-культурный территориальный комплекс, обладающий устойчивым литературным образом» (определение принадлежит географам В.Н. Калуцкову и В.М. Матасову). Соответственно, рассматриваются петербургский литературный ландшафт, орловский литературный ландшафт и т. п., которые соотносятся с соответствующими региональными сверхтекстами. Литературный ландшафт – один из основных терминов литературной географии, развивающейся в рамках гуманитарной географии. В литературоведческих исследованиях анализируется петербургский текст, московский текст и многие другие географически обусловленные тексты, показывающие значимость для писателя определенного географического пространства – города, региона, целой страны. Литературоведы, рассматривая географическое пространство как основу творчества того или иного автора, все более широко применяется термин геопоэтика, опираясь на наследие Н.П. Анциферова, исследования Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова и других ученых.
Исполнитель проекта к.ф.н. Е.В. Глухова (ИМЛИ РАН) в докладе «Русская усадьба как хранилище культурной памяти: усадебная библиотека и каталогизация культурных ценностей» рассмотрела русскую усадьбу в аспекте гетеротопии. Опираясь на утверждение современного философа В. Подороги: «Нет никаких особенных гетеротопий, они все известны и привычны для нас: театр, библиотека, дом, кладбище, кинематограф, музей; человеческая жизнь определяется движением по пути от рождения до смерти внутри подобных гетеротопических пространств», – мы можем с уверенностью утверждать, что русская помещичья усадьба, без сомнения, является особого рода гетеротопией, воспроизводившей самое себя на протяжении почти полутора сотен лет дореволюционной России. К числу особенностей русской усадьбы можно отнести другое течение времени, ориентированного на воспроизведение сезонного крестьянского цикла, с типовым комплексом устойчивых моделей жизненного уклада и бытового поведения. Структура усадебного мира внутри самого себя оказывается за пределами привычных культурных бинарных оппозиций типа «город – деревня», «городская среда – сельская жизнь». В традиции русской литературы XIX в. усадьба не просто декорация к происходящим событиям, но такое место, где действие локализовано в ином пространственно-временном континууме. Не случайно в дворянской усадьбе происходят наиболее значительные события в жизни героев («Капитанская дочка» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «Отцы и дети» Тургенева, «Вишневый сад» Чехова). Начиная с литературы классицизма за «усадебным топосом» закрепляется ряд устойчивых нарративных моделей: на рубеже XVIII-XIX в. это эпистолярий и мемуаристика (исторические записки А.Т. Болотова, которые он пишет в своей деревне, уйдя в отставку), дамский альбом, элегия и поэма (например, произведения А.С. Пушкина периода «болдинской осени»). Не случайно в начале XX в. семиосфера русской усадьбы – это «бесконечно длящийся XVIII-й век», с его набором книжных редкостей, художественными и культурными артефактами века классицизма и Просвещения. Отсюда особое свойство мира русской усадьбы – она исполняла функцию хранилища интеллектуальной и культурной памяти: в каждой усадьбе обязательно имелась библиотека, набитые книгами и предметами искусства «дворянские гнезда» зачастую выполняли функции музейных хранилищ, – а, как известно, гетеротопиям свойственно накопление времени. Можно отметить, что один из первых послереволюционных указов Наркомпроса касался национализации культурных ценностей, и первые экспедиции по спасению наследия отправлялись в русские усадьбы – за национальными древностями, предметами искусства, книгами. От накопления национальной и культурной памяти до ее уничтожения оставался один шаг; этот процесс зафиксировал еще А.П. Чехов в лирической комедии «Вишневый сад». После революции происходят радикальные изменения: помещичья усадьба была уничтожена как исторический факт, но символически это означало уничтожение национальной культурной памяти. Вместе с тем сохраняются важнейшие приметы усадебной гетеротопии: прежде всего, это память места, воспоминание об «усадебном локусе», его геопоэтика. Таким образом, гетеротопная модель русской усадьбы в XX в. демонстрирует исключительную устойчивость, функционально трансформировавшись, с одной стороны, в дачу, с другой – в хранилище памяти культуры в виде музея-усадьбы.
Доклад исполнителя проекта, аспиранта ИМЛИ РАН Г.А. Велигорского «Ферма – хутор – мыза; farm – grange – homestead: Загородное владение с хозяйством и огородом в литературе Великобритании, России и США рубежа XIX—XX вв.» был посвящен проблематике западноевропейской усадьбы. История английской дворянской усадьбы имеет чрезвычайно глубокие корни, уходящие в эпоху английского феодализма. Феодальные отношения начали складываться еще в англосаксонский период – и были окончательно закреплены после Нормандского завоевания 1066 г., развиваясь в последующие столетия. На заре английской словесности возникли синонимические ряды для обозначения частных обширных владений, с зелеными лугами, пахотными землями, пастбищами, огороженными территориями и даже охотничьими угодьями. Возникали конкретные термины, которые в переводе на русский язык изменялись, трансформировались и обретали иное звучание. Одной из таких словесных пар, или, в расширении, словесных триад, является пара «farm – grange» (с возможным добавлением «farmstead»). В докладе рассматривался этот исторически сложившийся ряд синонимов, а также сближающихся с ними (но семантически не всегда совпадающих) русских эквивалентов: «ферма», «мыза», «хутор» и некоторые другие. Английские словоупотребления были рассмотрены на примерах литературного творчества ряда британских прозаиков и поэтов; была предпринята попытка проследить изменение значения этих понятий с течением времени – от Чосера и до эпохи модерна. Прослежена их связь с категориями британской предромантической эстетики, сформированными в середине XVIII столетия. Отмечено, что за каждым из этих английских терминов с течением времени и с развитием школы художественного перевода закрепился русский эквивалент. Кроме того, в докладе отмечались терминологические различия, особенно заметные при обращении к переводческой практике; поставлен вопрос о правомерности ряда существующих переводов, которые допускают фактические ошибки, искажающие читательское восприятие.
В процессе дискуссии, вызванной прозвучавшими в докладах размышлениями и приведенными фактами, особое внимание уделялось практическому аспекту: как именно теории «культурного трансфера» и «нового историзма» могут быть использованы в литературоведческих исследованиях об усадьбе и даче? насколько широко могут применяться понятия гетеротопии и габитуса в «усадебных» штудиях? к чему приводит нас изучение англо-американской усадебной топики: к утверждению универсальности «усадебного топоса» или к представлению о его национальной исключительности в русской культуре?
В дискуссии, помимо участников проекта, выступили гости семинара: Н. Смирнова, Л. Ражина, Н. Пегова, Е. Астащенко и др.
ФОТО
Отчет подготовила Е.В. Глухова